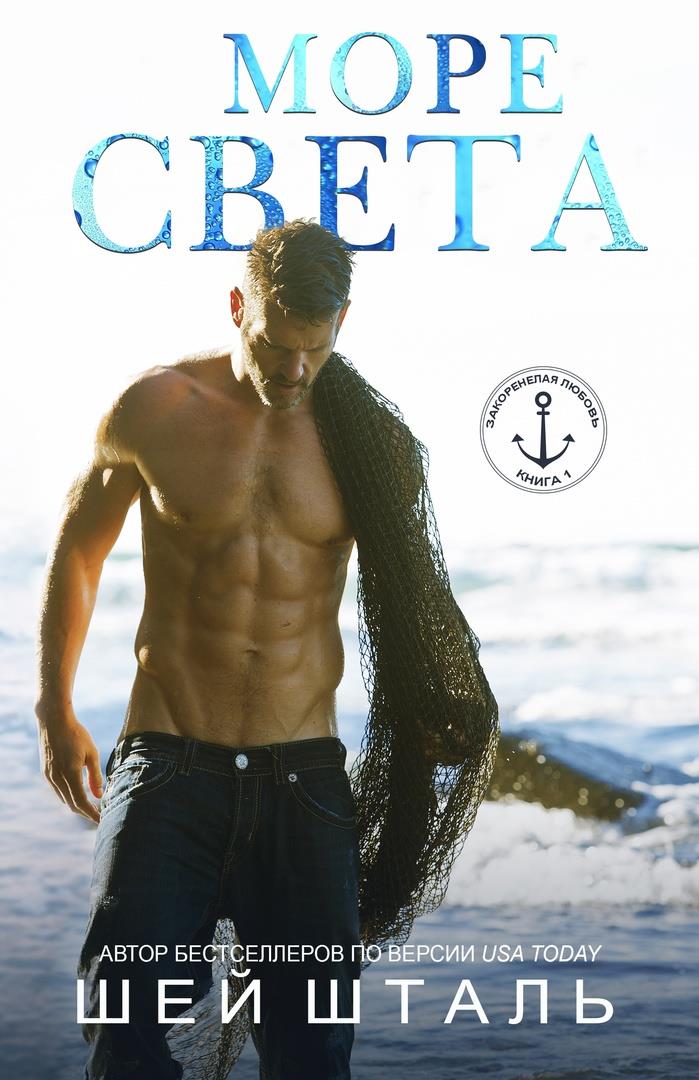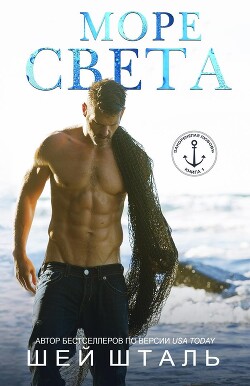своему характеру взять верх.
— Послушай, ты, самоуверенный сукин сын… — Я разворачиваюсь на пятках, звук ревущего ветра и пропеллера вертолета заглушает резкость моего голоса. Прижав руку к его груди, я хватаю его за униформу. — Я на сто процентов благодарен тебе за то, что ты спас меня и мою команду, но я потерял свое судно и, возможно, своего гребаного брата. У нас была неисправна рация, и мы не услышали штормового предупреждения!
Его лицо ожесточается.
— Мы это выясним.
Я хочу убить его нахрен. Я бы, наверное, так и сделал, если бы не Нивио, который схватил меня за капюшон куртки и оттащил назад.
— Стоп, я думаю, за последнее время мы разозлили достаточно людей.
Наверное, в этом есть доля правды.
Они переправляют Бэара в Анкоридж, и хотя меня должен осмотреть врач, я не нуждаюсь в такой заботе, как он. Я знаю, что у брата гипотермия (прим. пер.: переохлаждение), как и у всех нас, но он пострадал сильнее. Его правый зрачок полностью расширен, и он без сознания уже четыре часа.
Как только я добираюсь до телефона в Датч-Харборе, первым делом звоню отцу.
— Бэара на самолете доставляют в Анкоридж. Он получил сильный удар по голове и, скорее всего, у него сломаны ребра. По крайней мере, на какое-то время он пришел в себя и дышал самостоятельно.
Испытав облегчение от того, что мы живы, отец уверяет меня, что с Атласом все в порядке.
— Она знает.
Она знает? Что я жив? Хорошо, это замечательно. Но потом я думаю: нет, он имеет в виду не это. Прижимаю телефон ближе к одному уху, а другое прикрываю рукой.
— Что именно?
— Насчет Афины.
Мое сердце замирает. Бл*дь. Черт возьми. Я не дышу в течение минуты. Такое ощущение, что воздух буквально вырвали из моих легких. Я слышу, как неистово стучит мое сердце, и вокруг меня больше ничего нет. Словно все вокруг замолкло. В конце концов, делаю глубоких вдох, а затем резко выдыхаю. Провожу руками по волосам и сильно их дергаю. Я виню своего отца. Это несправедливо, но я все равно это делаю, потому что он разговаривает со мной в данный момент, и если бы он не сказал мне, где Джорни, я бы не пошел в тот бар. Да, это моя вина, но я не хочу в это верить. Не тогда, когда единственным человеком, кроме Атласа, который не дал мне умереть в сорокаградусной воде (прим. пер.: + 4,4 по Цельсию), была Джорни. В голове проносятся воспоминания о том, как я оставил ее в тот день на причале. Я должен был ей рассказать.
— Зачем тебе нужно было говорить ей? Почему ты не мог просто позволить ей жить дальше, ничего не зная?
— Я сделал это не для того, чтобы причинить боль тебе или ей, — шепчет отец, давясь словами. В трубке становится тихо, и я слышу его ровное дыхание среди помех. — Но, черт возьми, Линкольн. Я наблюдал, как об этой маленькой девочке годами беспокоились её родители. Я с самого начала знал, что Джорни получила это сердце, и хотел, чтобы ты узнал, что она за человек. Что часть Афины получила такая замечательная девушка, которая отчаянно нуждалась во втором шансе. Когда достигаешь моего возраста, то, начиная оглядываться назад, понимаешь, что, хотя я делал для вас, мальчики, все, что мог, но никогда не давал вам всего самого лучшего. Я не хочу такого для тебя с Атласом.
Думаю о том, что он сказал. На самом деле. Не то чтобы я его не слышал, но все же не воспринимаю его слова так, как должен. Я слишком зол, что не успел рассказать правду Джорни. Глубоко вздохнув, сжимаю переносицу подушечками пальцев, стараясь сохранять спокойствие.
— Ты сказал ей?
— Нет, она узнала сама. Координатор трансплантации сообщил ей возраст и место жительства Афины.
Это моя вина, правда. Я спросил, знает ли она, кто ее донор, и этим открыл ей дверь в разгадке. У меня было твердое намерение рассказать ей. Я собирался. Просто не знал как. Бл*дь, это гораздо хуже.
Вздыхая в трубку, я проглатываю подступающий комок сожаления.
— Если ты знал, что у нее сердце Афины, почему не сказал мне об этом тогда?
— А что бы это изменило? — спрашивает отец хриплым голосом, а затем быстро вдыхает. Отец не часто курит, но я уверен, что сейчас он делает именно это. Представляю, как он стоит там, прижав телефон к одному уху, с сигаретой в руке, держась за привычку, от которой он пытался отказаться столько лет, но так и не смог. — Ты был так зол, что вряд ли это что-то изменило бы.
— А сейчас?
У меня щемит в груди, когда понимаю, что Джорни никогда не простит меня. Я не должен был позволять этому зайти так далеко. Я заблуждался и был ослеплен чувствами к ней, которые возникли из ниоткуда, и как только я в это ввязался, уже не мог остановиться. А потом она встретила Атласа… Черт, черт, черт.
— Она нужна тебе, — наконец, говорит отец, шумно выдыхая. — Атлас должен узнать ее получше.
С самого начала это было его аргументом. Я знал это. И он пытался наверстать упущенное в отношениях, которых у нас не было.
В моей голове всплывают его слова.
Я делал для вас, мальчики, все, что мог. Я никогда не давал вам всего самого лучшего.
— Это не тебе решать.
— Но все же ты приехал сюда. Ты вошел в тот бар. Ты искал ее.
Как бы мне ни хотелось накричать на него и обвинить во всем — это не его вина. Он прав. Я сам принял решение зайти в тот бар. Я решил вернуться туда снова.
— Я вижу, как вы оба привязались к ней, — добавляет отец. — И это не имеет никакого отношения к Афине.
Но разве это не так? Не отсюда ли возникла эта связь? Я думал, что знаю, как отреагирую на то, что Джорни узнает, но это… это совсем не так.
Зазубрина — выступающая часть крючка вблизи его острия, которая предотвращает его выпадение изо рта рыбы.
Проходит два дня, прежде чем Линкольн возвращается в Вестпорт. Без Бэара. Он находится в травматологическом центре в Анкоридже, его состояние стабильное, но его еще рано выписывать. Как рассказал мне Флетчер, у него было кровоизлияние в мозг, которое удалось остановить, разрыв селезенки из-за