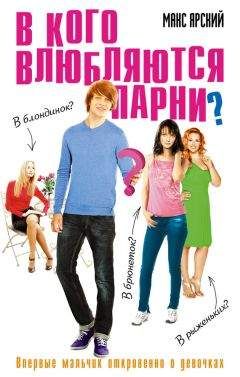И ничего мне не рассказывает… Да и я тоже хороша. Сама ничего не спрашиваю. Сыт, обут и ладно…
– Не знаю, – повторяю тихо.
Я действительно не видела, чтобы Петька с кем-то из наших именно ругался. Ну вот только после той ситуации с Дэном на него весь класс ополчился, как и на меня. Но потом Петька предал меня, когда заманил в кафе, и наши с ним опять стали общаться. Хотя… не так, как раньше, конечно. Совсем не так. Это больше напоминало унизительное ерничанье, а не дружеское общение. И капитаном стал не он, а Шатохин.
Дурак все же Петька. Он так хотел вернуть расположение одноклассников, так рвался стать для них «своим», но, по-моему, все его попытки только еще сильнее ухудшали отношение к нему. Я не злорадствовала, честно. Мне и тогда было его, глупого, жалко. Но сейчас я так за него переживаю, всей душой… Хоть бы он поправился!
– Не могу просто… так жалко… его так ужасно избили… ни за что ни про что… какие-то пьяные гопники… – сбивчиво, в нервном возбуждении рассказываю я Герману про Петьку на следующий день. – Мы сегодня утром ездили в больницу с бабушкой и его матерью. Тетя Люда, его мама, прямо не в себе… Полночи у нас прорыдала, да и сейчас постоянно плачет. А к Петьке нас не пустили. Он там в реанимации. В коме! Представляешь?
Герман слушает меня с каменным лицом. Мы гуляем по набережной, но я не могу ни говорить, ни думать ни о чем другом, кроме этого страшного события. На эмоциях я не сразу замечаю выражение его лица. И так же не сразу обращаю внимание, что Герман уже не держит меня за руку. Затем постепенно умолкаю.
– Что-то не так?
– В смысле? – приподнимает он бровь. Говорит Герман невозмутимо, но я чувствую его злость. Вернее, нет, не злость, а раздражение, хоть он и не подает виду.
– Ну… Петька в коме… – растерянно повторяю я. – Неужели тебе его совсем не жалко?
Нет, я понимаю, что Герман не любит Петьку. Но разве можно оставаться равнодушным к такой беде?
Герман смотрит на меня так, словно хочет сказать что-то жесткое, но сдерживает себя. В конце концов коротко отвечает:
– Прости, но нет.
Меня потрясает такое его безразличие.
– Как так можно? – вырывается у меня с невольным упреком.
– Можно – что? Не сочувствовать трусливому и лживому уроду, который тебя сто раз унизил и предал? Ну а мне не понять, как можно причитать из-за него, забыв все гадости, что он тебе сделал.
– Ты слишком строг к людям, Герман. Строг, нетерпим и безжалостен.
– Зато ты слишком жалостливая, терпеливая и всепрощающая.
– Этот трусливый урод, между прочим, брата своего младшего спасал. Те гопники сначала его обижали, а Петька не побоялся… защитил его. Один! Против толпы! Его чуть не убили!
– Герой! – со злой усмешкой говорит Герман, а меня коробит его саркастичный тон.
– В той ситуации действительно – герой, – с обидой отвечаю я. Мне меньше всего на свете хотелось бы портить отношения с Германом, но и смолчать не могу.
– А не в той? Лен, пойми, – Герман останавливается и разворачивает меня к себе. – Может, это и прекрасно, что он защищал своего брата. Но мне все равно. Да пусть бы он спас хоть дюжину разных братьев, сестер, собачек, кошечек. Для меня имеет значение только то, что он обидел тебя. Я презираю его. Поэтому не надо выпрашивать для него жалости.
– Я и не прошу его уважать, просто… чисто по-человечески, не важно Петька это или кто-то другой… – бормочу я расстроенно.
И Герман вдруг смягчается. Усмехается благодушно.
– Ну, ладно, хорошо. Я жалею Чернышова, сострадаю ему и сочувствую, – и тут же добавляет с улыбкой: – Но не от всего сердца.
А вечером случается поразительное. Мне звонит Сонька. Сама! Впервые после нашей ссоры.
– Привет, – несмело здоровается она. – Лен, ты слышала про Черного? Мы час назад вернулись все с Ольхона. И Агеева только что в чате написала, что его вчера избили… что он в реанимации… Это правда?
– Да.
– Какой кошмар! И как он? Поправится?
– Неизвестно пока.
– Жалко Черного… – все с той же неуверенностью произносит она.
– Угу…
Повисает долгая пауза. Соня больше ничего не говорит, только дышит шумно в трубку, но и звонок не сбрасывает. Мне надоедает это многозначительное молчание, и я было открываю рот, чтобы попрощаться, как Соня снова подает голос:
– Лен, а ты как?
Я чувствую по ее тону, как тяжело ей дался этот простой вопрос. И, наверное, поэтому не решаюсь ответить ей резко.
– Нормально.
– Ты теперь с Горром, да? Так странно, ты же его терпеть не могла…
– Как оказалось, я часто ошибаюсь в людях.
Снова лишь сопение, а потом Соня выдает:
– Лен, ты прости меня, пожалуйста, что я тогда накричала на тебя. Я сгоряча…
Такой острой обиды, как раньше, давно уже нет. Но и легкомысленно отмахнуться, мол, что было, то было, проехали – я тоже не могу.
– Ты могла бы у меня спросить, а не верить Ямпольскому безоговорочно, что бы там он тебе ни наплел.
– Да я бы и не поверила, честно! Но он сказал такое, что знала только ты. То, что я говорила только тебе и больше вообще никому. Даже Петьке не говорила. Понимаешь, он сказал, что хочет с тобой встречаться и все такое… Предложил это тебе, а ты согласилась, но с условием… Ну, типа ты была бы не против замутить с ним… только тайком от меня. Чтобы я ни о чем не знала. Потому что… потому что давно люблю его. Сказал, что вы уже гуляли вместе, пока я болела… ну вот теперь вышла я, и ты занервничала, что я узнаю… А он решил типа поговорить со мной, ну чтоб я не мешала вам дальше встречаться и все такое…
– Ничего такого не было. Он тебе просто какую-то чушь наплел. Как ты могла в такое поверить?
– Так я же говорю! Он ведь сказал то, что кроме тебя никто не знал.
– Ты о чем?
– Ну, что я его люблю…
– Соня, – вздыхаю я.