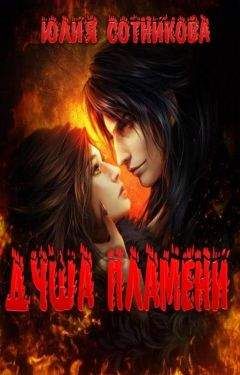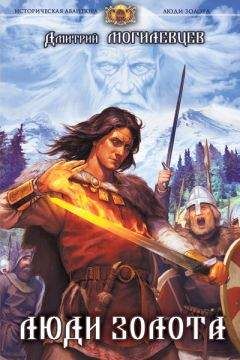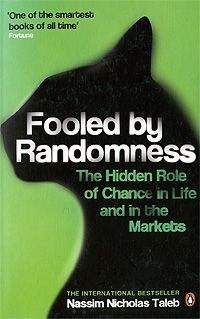– Не ты, не ты.
Он коснулся ее руки очень коротко, но она успела почувствовать, какая твердая у него ладонь. Это совсем не переменилось. Да и ничего не переменилось – как странно! Нет, не это странно…
Странным было то, что в себе она больше не чувствовала перемен. Все произошедшее с нею – тоска, никчемность, безысходность, а главное, ощущение выжженной пустыни вместо души, – все это сделалось несуществующим в одно мгновенье.
Она не думала, что это может стать так. Это и не могло стать так! Все, что случилось с ней за войну, было необратимо.
Но все переменилось в ту минуту, когда она замерла у Роберта на груди.
И этим прежним своим, так необыкновенно сделавшимся прежним взглядом Полина взглянула теперь на него – без страха, без тревоги и неизбывности, с одним только бесконечным счастьем.
Он стоял перед нею в каком-то ослепительном свете. Этот свет не мог исходить от тусклых комнатных лампочек, он имел совсем другую природу. Он был так же ясен и чист, этот свет, как мужчина, им освещенный, а вернее, его излучающий. И глаза его были по-прежнему расчерчены светлыми лучами, и взгляд от этого по-прежнему светился вниманием.
Но все-таки Полина увидела теперь и перемены, произошедшие с ним.
– А что это за шрам? – Она взглянула на его правую скулу. – И вот здесь.
Второй шрам, тоже багрово-синий, как от ожога, тянулся вниз от его левого виска.
– Я не сбежал от тебя после той ночи. – Роберт произнес это таким виноватым голосом, что Полина мимо воли улыбнулась. Но улыбка тут же сошла с ее лица. – Не надо мне было тогда возвращаться к себе. Я должен был кое-что сжечь и кое-что забрать, но все-таки лучше было не возвращаться. Я же знал, что будет бомбежка и что после нее оставаться в Берлине мне будет уже невозможно. Но надеялся успеть. И не успел.
– Это… от гестапо?
Полина вскинула руки и провела пальцами по двум шрамам на его лице.
– Гестапо крайне неприятная контора, – сказал Роберт. – Но мое пребывание в ней длилось недолго, – поспешил добавить он.
– Недолго – это сколько?
– Ну… Там время идет по-другому. Я, конечно, беспокоился, что могу не дождаться, пока меня оттуда вытащат. Но дождался ведь. Теперь уже не о чем переживать. Это очень давно было. – Он прижал Полинины руки к своим щекам, потом поочередно поцеловал их. – С тех пор много всего произошло. Про то я уже забыл.
– Ты меня обманываешь. – Она почувствовала, что сейчас заплачет. – Про это невозможно забыть.
– Это про тебя невозможно забыть. В гестапо мне хотелось выжить, а потом – уже нет.
– Почему? – не поняла Полина.
– Мне сказали, что в пансионе тебя больше нет. И на студии нет. Никто не знал, куда ты исчезла из Берлина.
Наверное, ненависть, которую Полина испытала к себе в эту минуту, отразилась на ее лице, потому что Роберт добавил:
– Но потом я узнал, что ты вернулась. Да я и всегда знал, что ты… Я всегда знал, что ты жива.
– Как же ты мог это знать? – пробормотала Полина.
Она отвернулась и быстро смахнула слезы.
– Боюсь, ты не поверишь, но ты мне снилась каждую ночь.
– Я поверю.
– Я даже не назвал бы это снами. Сказал бы, что это были галлюцинации, но не хочу, чтобы ты подумала, что я свихнулся. А назвать это видениями – слишком романтично для взрослого человека.
– Можешь вообще никак не называть, – сказала Полина. – Я знаю, о чем ты говоришь. Со мной было то же самое.
И они наконец поцеловались. Странные это были поцелуи! Губы касались губ так легко, так мимолетно, как будто не было не только разлуки в шесть лет длиной, но и страсти не было между ними. Да, не страсть влекла их друг к другу, иначе называлось то, что соединяло их губы.
– Пойдем, – сказала Полина. – Какая там погода? Я не выходила сегодня. Пальто надеть или плащ?
Она хотела сказать ему о ребенке, но понимала, что говорить об этом в комнате не следует. Надо решить, что делать, и решить это надо так, чтобы никто не смог им помешать. А здесь, может, Шура под дверью стоит, вся обратившись в слух, да и что в эти стены вмонтировано, кто знает.
Полина вспомнила, как, вцепившись Неволину в пиджак, трясла его и требовала сказать, где ее ребенок, как уходил он, уклонялся от ответа, пока она не пригрозила, что не вернется в Берлин, пусть хоть расстреляют. Только после этого он нехотя сказал:
– Да все с ней в порядке, что ты неистовствуешь? Здоровая девочка, веселая. Вес набирает хорошо. Что б с ней было сейчас в Европе? Франции, считай, нету, Англию бомбят, в Германии… Сама знаешь, что в Германии. Хочешь дочку там растить? А здесь у нее все есть. Главное, жива-здорова. Вернешься – заберешь.
– Она что, в приюте? – быстро спросила Полина. И воскликнула с отчаянием: – Она потеряется! Ведь война! Она у вас просто потеряется!
– Не потеряется, – уверенно ответил Неволин. – Война, не война – у нас везде учет и контроль. Тем более на ней метка надежная.
– Какая метка? – вздрогнула Полина.
Она представила концлагерь, об узниках которого тайком шептались в Берлине на киностудии, и ее обуял ужас.
– Ну, это я выразился неточно, – поправился Неволин. – Просто я ей отцовскую фамилию записал. В метрику, как положено. Это тебе от меня подарок, заслужила. Девчонок с такой фамилией в стране кроме нее нет, сама понимаешь. Так что не волнуйся, всяко найдешь ты свою Викторию. Хоть со мной, хоть без меня. Получишь в целости-сохранности, еще спасибо нам скажешь за правильное воспитание.
Тогда она высказала Неволину все, что думает о его воспитании, но вынуждена была ему подчиниться. А теперь…
Теперь следовало вести себя так, чтобы отнять у них ребенка наверняка. Расчетливо и жестко следовало себя вести, а для этого нельзя было высказывать в порыве чувств то, что чужим ушам слышать не надо.
«Через Красный Крест, – подумала Полина. – Через Красный Крест мы его вернем».
– Пойдем, Роберт, – повторила она.
– Подожди.
Он достал из кармана плаща коробочку и протянул ей. Полина открыла коробочку и чуть не зажмурилась от брызг света, ударивших ей в глаза. Она не поверила бы, что такое бывает – чтобы приходилось жмуриться от блеска драгоценных камней.
На белом бархате в коробочке лежали серьги, две длинные сапфировые капли без оправы, и кольцо с таким же крупным неоправленным камнем. В каждый сапфир были вкраплены, будто рассыпаны по нему, бриллианты, и казалось, что серьги и кольцо вырезаны прямо из ночного неба, в котором сияют звезды. Это была такая благородная старинная работа, какой Полине не приходилось видеть никогда.
– Я могу считать, что ты согласилась выйти за меня замуж? – спросил Роберт.
– Можешь.
Полина едва сдержала смех – таким серьезным тоном он это произнес.