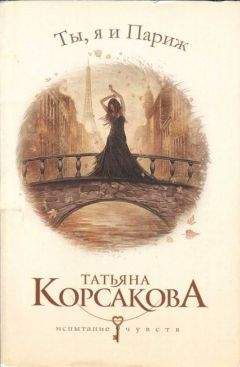Но вместе все как-то расплывалось, не запоминалось. Хотя многих, да и саму Зинку, восхищали ее глаза: глубокие, синие с вечной романтической поволокой, словно вызванной готовыми вот-вот пролиться слезами. Если и можно пленить кого-то одним только взглядом, то Зинаиде это было неизвестно: опытов таких она не проводила, так как успех подобного эксперимента подвергала большим и небеспочвенным сомнениям. В общем, редкое внимание со стороны представителей противоположного пола было для нее, конечно, желанным и, бесспорно, приятным, но продолжало казаться весьма удивительным. Заинтересованность Боба и вовсе поразила Зинку. Впрочем, ничего особенно странного в таком проявлении чувств на самом деле не было. Если кто-то из обитательниц квартиры и мог произвести впечатление на приходящих к портнихе, то кроме нее самой на роль искусительницы могла подойти только Зина: все остальные были дамы серьезные, амурных планов не строящие, флиртовать не умеющие или давно разучившиеся, да и интереса к подобной публике, что представляли собой Тамарины клиенты, не проявлявшие. У самой же Тамары к тому времени появилось личное сокровище, собственноручно упакованный сверток, туго затянутый в цветастые пеленки, что приносила с работы соседка — врач.
Сверток именовался Маней и не имел никакого отношения к застрявшему в плаваниях моряку, который из разряда мужа после довольно продолжительной качки и нескольких сильных штормов был все же успешно произведен в ранг бывшего под напором увеличивающегося Тамариного живота и ее всепоглощающей, неземной любви. Новая любовь, однако, присутствием своим семью не баловала. Все, что известно было об этом человеке в их коммунальной квартире, исходило от самой Тамары: познакомились, полюбили, сошлись, жизнь на время разлучила. Где, как, когда, почему — подруга не говорила, а Зинка не спрашивала.
— Работает, — объяснила отсутствие мужа Тамара и погрузилась в верное ожидание, что заставило Зину убедиться в том, что профессию моряка соседка за работу не считала.
Разочаровалась Зинаида в набриолиненном Бобе так же внезапно, как и воспылала к нему. Стоило юноше несколько недель спустя, недовольно скривившись, взглянуть на захныкавшую Машу и сказать почти презрительно: «Да убери ты ее отсюда, чего с младенцем возишься?» — как очарование спало, будто пелена. Вместо уверенного в себе, модного стиляги перед Зиной очутился жалкий воробышек с хлипкой, впалой, нетронутой волосами грудкой, маленькими, юркими, хитрыми, бегающими глазками и высокомерным, совершенно обнаженным эгоизмом. И единственное, что она теперь ощущала, было чувство внезапного, оглушительного безграничного стыда. Не за себя, за него. Боб испарился из Зининой жизни столь же молниеносно, как и возник, не оставив, слава богу и Тамариной спринцовке, после своего пребывания никаких последствий, за исключением налета брезгливости, который Зина еще долго пыталась оттирать в общем душе дважды в день, выслушивая все, что думают соседи о ее единоличном владении ванной.
Вместе со стилягой Бобом из Зининой жизни стал и уходить джаз и мечты о платье с воланами. Машу пугало надрывное звучание саксофона, раздражал рок-н-ролл и возбуждал буги-вуги. Пришлось вернуться к классике и заполнить Шопеном и Штраусом подоконник Тамариной комнаты.
— Он говорит: «Я умнею!» — Тамарины щеки пылают, глаза горят живым блеском, она стоит на коленях перед матрасом, водит мелом по разложенному на нем куску материи.
— Кто? — Зина пытается ухищрениями впихнуть в девятимесячную Машу хоть сколько-нибудь чайных ложек каши.
— Миша. Он говорит, что джаз — это, конечно, замечательно, но классика есть классика, и каждый уважающий себя человек…
— Погоди! Как это он тебе говорит? Он же не приезжал, Фельдман твой, и Машку не видел, коляску и ту с оказией передал.
— Вот так, — Тамара вытягивает из-под матраса внушительную пачку писем. — Так и общаемся. — Она роется в ворохе бумаг, вынимает один из конвертов: — Aгa, нашла. Слушай! «Без музыки жизнь была бы ошибкой, музыка — самый сильный мир магии». Здорово сказал, правда?
— Здорово, — соглашается Зинка. О том, что первым это произнес Ницше, она Тамаре не сообщает, но чувствует, что знакомство с загадочным мужем соседки, которого она до сих пор еще не видела, стало для нее теперь еще более притягательным. А вместе с тем личность этого человека теперь из совершенно загадочной превратилась в определенно любопытную.
— Ох, Зинаида, какая же я счастливая! — Тамара мечтательно прижимает к груди письмо.
— Ты? — Зина не может сдержать иронии. — Ешь, Маня! Давай-давай! А то вместо Бетховена будет тебе Бах. Да-да, бах-бах, и не на скрипке, а по попе.
— Я, конечно! Ведь у меня же самое главное в жизни есть.
— Это что же?
— Ты даешь! Любовь, конечно!
— Мама говорит: «Главное — здоровье!»
— Тю-ю-ю… Да я здорова, как бык.
Здоровая, как бык, Тамара через год попадет под машину. Умереть — не умрет, но и жить не останется: превратится в овощ, лежащий на кровати и изредка выполняющий команду: «Ешь, Тома! Давай-давай!» Зинка опять будет плакать какими-то смешанными, бесконечными слезами: горькими, жалостливыми, злыми и безысходными. А потом они кончатся, и, как всегда, наступит облегчение, и забрезжит надежда, и приоткроется дверь, над которой кто-то повесил табличку с надписью «выход».
Зинка на судьбу не обижалась, Господу Богу не жаловалась и даже слезы лить перестала. Было некогда. Тамара нуждалась в уходе, Маня — во внимании, бригадир в перевыполнении плана, а в чем нуждалась Зина — она и сама не помнила. Все ее мысли были заняты беспросветной чередой глаголов, глаголов домашних: разбудить, помыть, причесать, обтереть, подтереть, достать, принести, приготовить, накормить, снова помыть, уложить и еще глаголов фабричных, точнее, одного, что не позволял расслабиться ни на секунду, отстукивая в голове монотонный ритм: работать, работать, работать. Работать, чтобы получить возможность достать, принести, приготовить, накормить. И так без начала и конца, с утра до вечера, с весны до осени, от зноя до стужи.
— Устроила здесь богадельню, — беззлобно, даже сочувственно упрекала Фрося. — Чего маешься? И без того ни кожи, ни рожи не было, а теперь и вовсе словно тень по квартире мечешься.
— Мечусь, теть Фрось, — соглашалась Зина. — А как не метаться? Правда ваша, забот невпроворот.
— Тьфу на тебя. Устроила себе не жизнь, а черт-те что! А делов-то было: одну в дом инвалидов, другую — в приют.
— А потом? — спрашивала без вызова, но с прищуром.
— Потом жила бы спокойно. Ноги на танцах, руки на станке, голова в шляпке.