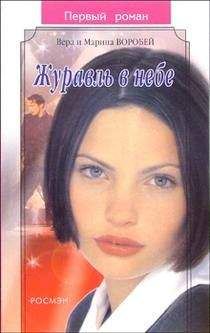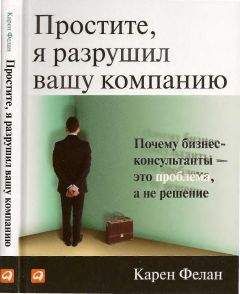Русаков давно уже не занимался ремонтом видавших виды Москвичей да Жигулей. Теперь он 'лечил' иномарки. Запросто превращал битую машину в конфетку — что уж говорить о мелком ремонте?
Они никогда не выясняли, кто больше зарабатывает. Какая разница? Главное, что они не голодают. Ребенок имеет все необходимое. Индивидуальные занятия с педагогами? — пожалуйста. Частный лицей? — без вопросов. Бальные танцы, теннис? — было бы желание. Из-за чего ломать копья? Только из-за того, что они могут себе позволить все необходимое, и даже чуточку больше? Глупо.
Однако жизнь никогда не бывает гладкой. Хоть что-нибудь да мешает абсолютному счастью.
Так и у Иры. Профессия мужа не смущала ее только дома. Вернее, дома она об этом попросту забывала. На работе же старалась не афишировать. Вернее, не просто не афишировала, а скрывала от всех. Негоже ей, заместителю генерального директора крупного столичного предприятия, в мужьях иметь простого работягу. Пока она была рядовым бухгалтером — почему бы и нет? Но с тех пор она сильно выросла в должности. К счастью, те, с кем она раньше плотно общалась на работе, в тяжелые времена уволились в поисках лучшей жизни, а из нынешнего окружения никто не знал, что ее муж самый обыкновенный автомеханик.
Периодически в тресте случались корпоративные вечеринки, на которые, к вящему удовольствию некоторых, не приглашались официальные половины сотрудников. Иру это тоже очень радовало. Казалось — приведи она на такое мероприятие Сергея, и все скривятся презрительно: фи, а муж-то нашей замдиректорши совсем не Ален Делон! В нем, таком уютном и домашнем, не было ни капли лоска. Как его ни одевай, в какой туалетной воде ни отмачивай — за версту видно: работяга. Как приговор. Как клеймо. Работяга. Не может успешная женщина иметь такого банального мужа.
А Ира имела. И другого не хотела.
Чего она боялась? Сама бы сформулировать не сумела. Наверное, всего в совокупности. Того, что подчиненные разочарованно фыркнут. Того, что Сергей почувствует себя оскорбленным, увидев их насмешливые лица. Боялась стать зависимой от людской молвы.
Лучше пусть его никто не знает, никто не видит. Сергей — это ее личное. А личное она не намерена выставлять напоказ. Личное нужно оставлять дома. А на работе она не жена, не мать. На работе она — заместитель генерального директора. И точка.
И еще одно событие прошло незамеченным, будто само собой разумеющимся.
Ира и сама не знала, вернее, не понимала, как могла поддаться на Ларочкины уговоры, как могла порекомендовать на должность секретаря надоевшую до икоты подругу? Ну почему же, почему мама не научила ее говорить 'нет'?! Зачем, каким образом она сама себе подложила такую свинью?!!
Глупо, обидно, неразумно, но теперь Лариска стала ее личным секретарем. Та долго прозябала в своей газетенке, пока нерентабельное издание не расформировали, перепрофилировав в женский глянцевый журнал. Для обладательницы престижного красного диплома московского журфака места в штате не нашлось. Вне штата, впрочем, тоже. Не нужен был хозяевам журнала красный Ларискин диплом. Им хотелось больше подписчиков, а значит — гламурных снимков, интересных интервью со звездами, сенсационных репортажей и эксклюзивных материалов. А Трегубович, как оказалось, умела только зубрить.
Ира воспринимала подругу, как старый чемодан. Ободранный, с поломанной ручкой, тяжелый, ненужный… Но — свой. Который жалко бросить на дороге.
Возможно, сравнение некорректно. Но она не могла воспринимать Лариску никак иначе. Обуза — она и есть обуза. Всю жизнь Трегубович была ее якорем. Гирей, привязанной к ноге, чтобы Ира невзначай не убежала слишком далеко, или от избытка эмоций не улетела в космос. Стоит признать — со своей ролью Ларочка справлялась идеально. Лучшего якоря не придумаешь.
Можно было сколько угодно скрипеть зубами. Можно было устраивать истерики. Можно было терпеть молча. Так или иначе — Лариска была рядом. Всегда. И будет всегда. Это Ирина ноша. Не избавилась вовремя — теперь неси и не жалуйся.
Она и не жаловалась. Жаловалась сама Лариска. Не на подругу, нет — на судьбу. Ира даже не могла сказать, что та ноет без повода. Поводы у Трегубович случались беспрерывной чередой, друг за дружкой. То одно не так, то другое не сложилось, то третье не срослось.
С детства стремилась к журналистике. Столько труда приложила к тому, чтобы получить вожделенную профессию. И что? Оказалась на улице. Хоть и с престижнейшим дипломом, но без работы.
Поиски новой работы ни к чему не приводили. Это раньше было хорошо: висит на дверях предприятия объявление о вакансиях, приходишь в отдел кадров, оформляешься и спокойно работаешь. С приходом же перестройки кругом и всюду стали проводиться собеседования. Сначала начальство на тебя посмотрит, в душу твою заглянет, а потом уже решение примет: хочет оно иметь тебя среди своих подчиненных, или не хочет.
Ларису не хотели. Ее не желали в роли журналистки. Не желали в роли корректора — невзирая на нехилый опыт по этой части. В учителях ей тоже места не было: неподходящее образование. Хотя нескольким ее одногруппницам журналистский диплом вовсе не помешал устроиться в школу. Не видели Ларочку в роли менеджера продаж, секретаря адвоката, продавца ювелирных изделий, косметики и парфюмерии. Не взяли в переводчики — оказалось, ее английский, который Трегубович зубрила с четвертого класса, могли понять только в России, и только россияне. Да и то немногие.
Оставалось идти в кондукторы или кассиры. Однако сидеть на кассе в банальном гастрономе она сама не хотела. Про кондукторство даже слышать не желала. Драить подъезды или в домработницы к крутым бизнесменам пусть нанимаются лимитчицы. Лариса не для того училась. Коль уж не сложилось с заграницами, она построит карьеру на телевидении. Или на худой конец на радио.
Однако к радио с телевидением ее и близко не подпустили. Даже на собеседование ни разу не удалось прорваться. Мир ее ненавидит! Ни за что. Просто так: ненавидит, и все.
Ира пыталась как-то подбодрить ее. Иногда получалось, но чаще Лариска просто впадала в истерику: то плакать начинала, то орать. Ира намекала: ищи ответы в себе. Просто так мир не станет ненавидеть человека. Значит, есть причина.
Но копаться в себе Трегубович не привыкла. Куда проще обвинить в несправедливости весь мир чохом.
Ире бы и ладно — не ее проблемы. Но Лариску было по-настоящему жалко: без малого сороковник бабе, а ничего нет. Ни работы путевой, ни личной жизни. Одна, если не считать матери. Отец Ларочкин умер еще раньше Ириного. Осталась мама. Но Софья Исааковна о дочери заботиться уже не могла, слишком стара: Лариску-то родила поздно, когда самой уж под сорок было. Старушке лекарства нужны — а у Лариски пособие крошечное. Без материной пенсии даже на питание не хватило бы. Какие уж лекарства?