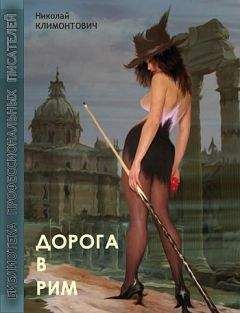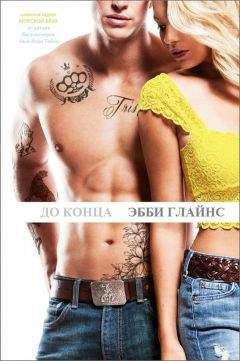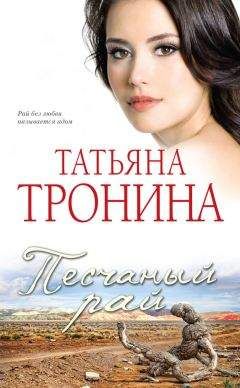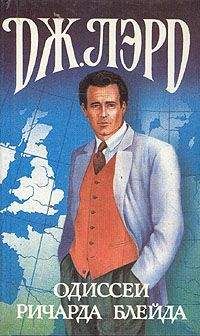глава III
ЧЕШСКАЯ ВЕСНА
Впрочем, она понравилась бы мне и в случае, если б оказалась сербкой или болгаркой, — в ее славянском происхождении можно было не сомневаться, — хоть я и не люблю крупных, а она была моего роста, с тяжелыми бедрами, с сильными руками, ногами и плечами, с широкой костью, с далеко выступающей грудью, с высокой, хоть и довольно полной, шеей, и именно сверкающая ее шея над вырезом блузы, ослепительно обнаженная, прежде другого притягивала взгляд, разом давая впечатление обо всей ее роскошно цветущей плоти, о живом блеске кожи, о нежности груди, о жаркой щедрости промежий; ко всему у нее было очень яркое лицо, по-крестьянски толстые лакомые губы, густого блестящего меха брови, едва заметно соединенные редкой темной порослью, выпуклые и ясные карие глаза и распущенные длинной волной черные волосы, отдающие на просвет темной медью. Но поскольку чуть не в первую минуту я узнал, что она — чешка, то не просто захотел ее, что случилось бы на моем месте со всяким, но — мгновенно влюбился, говоря себе, что если бы чехам пришло на ум выбирать свою Марианну, то лучше этой восемнадцатилетней студентки исторического факультета им было бы не найти, — в тот год помрачненной свободы мне представлялось, что чехам как никогда пригодился бы подобный символ.
Дело было ближе к весенней сессии, мы познакомились где-то на Ленинских горах, шли до дома рядом, благо, она была моей соседкой, жила в одном из корпусов университетского общежития для младшекурсников, а я — неподалеку, в профессорском доме, как называли его студенты, и после того августа прошел без малого год. До сих пор помню, как мы узнали о танках в Праге, и помню, что, как ни глуп я был в свои семнадцать, мигом почувствовал, что советская мышеловка захлопнулась, — в кругу, к которому принадлежала моя семья, на пражскую весну возлагались большие надежды, как потом, в августе восемьдесят первого — на польскую; поколению моих родителей, обольщенному хрущевским либерализмом, казалось, что именно теплый ветер из Чехословакии задержит наступление холодов, сменивших межеумочную оттепель. Но помимо страха, помнится, было и облегчение — потом я это странное двойное чувство испытывал не раз, так бывает, когда наконец-то сбываются слишком томительные и худшие ожидания.
Весть принес транзистор, и застала она нас в палаточном походе на Оке, и при всей серьезности происшедшего было бы натяжкой утверждать, что тщательно выисканный из-под сигналов глушилки репортаж Би-Би-Си тут же рассеял наше легкомысленное счастье, ибо школа только что была оставлена, в университет и институты было поступлено, и поход был апогеем безоблачной юности, с которой мы тогда со всем энтузиазмом неведения прощались навсегда. Для меня дело раскрашивалось еще и тем, что наш роман с Танечкой из параллельного класса, тянувшийся весь десятый школьный год, уже прискучил мне, но не настолько, чтобы я вовсе потерял вкус к постоянным изъявлениям ее любви, делавшимся все страстнее по мере нашего отдаления, — ведь я рвался в широкий мир, и она не без оснований предчувствовала, что в нем не найдется места для нашей будто тренировочной юношеской любви. Короче, тем августом я был удачливым любовником, во мне бродила шальная юная сила, будущее рисовалось сплошной фиестой студенческой вольницы — впрочем, мои родители были того разряда, что уже не одолевали опекой, — и танки для нас всех оставались, конечно же, голой абстракцией, а реальностью — песни Высоцкого, которые мы горланили под гитару, девочки, сама наша до поры дружная компания, узы которой тогда представлялись романтически нерушимыми, а хватку государства ни один еще не испытал на своей шее. Так, должно быть, в юности встречают начало войны.
Однако в Москве, когда я остался один, этот первый укол разросся постепенно до тихой ноющей тоски и неотступного гаденького предчувствия — собственно, это и есть основные ингредиенты страха, — что не пощадивший чешскую свободу молох рано или поздно доберется и до меня, и это было не столь уж невообразимой реальностью, четверо смельчаков, что вышли тогда на площадь, а потом отправились по этапу, косвенно мне были знакомы, в нешироком кругу столичной инакомыслящей интеллигенции все так или иначе знали друг друга. Не забыть приплюсовать и молодую нетерпимость к подлости, а чем, как не подлостью, мог я тогда назвать эту акцию наших правителей, ведь язык геополитики был нам тогда не знаком, а читали мы лишь Мандельштама с Пастернаком. И все вместе — тайный страх, либеральное горение, мелодия рукописного ахматовского «Реквиема», а пуще другого — подспудное чувство неизбывной неволи, тот темный вкус тюремно-ссыльной тоски, который, похоже, есть в крови самого благополучного русского, — не могло не рождать сочувствия чехам, и хорошо помню, как тем же сентябрем состоялся какой-то матч между советской и чехословацкой командами, и я, ни единожды не бывший на стадионе, отчаянно болел и был счастлив чешской победой так, будто сам одолел коммунизм на баррикадах. После матча, дрожа, я выскочил во двор с нашим эрделем по кличке Урс, псом, свирепым на вид, но на деле трусоватым, и наткнулся на группу болельщиков из общежитий, рыскавших в потемках в поисках студентов-чехов, чтобы немедленно им отомстить. Что ж, если б чехи тогда сыскались, я б ни секунды не колебался и, как пограничник с Джульбарсом, встал бы в их, конечно же, ряды… Понятно, моя чешка со своей грубоватой красотой тронула меня, и была это не одна обычная похоть, но невероятная нежность, питавшаяся комплексом вины за соотечественников, за то совдеповское быдло, что в банях, пивных, поездах и на завалинках, пьяно стуча себя в грудь, уверяло, что это именно оно сидело тогда в головном танке, и это самозабвенное кровожадное вранье на самом деле было в общем смысле чистейшей правдой. Впрочем, эта пышная и большегрудая чешка казалась старше своих лет, смотрелась молодой дамой, и было бы глупо ухаживать за ней на школьный манер, прогуливаться по парку, обниматься по лавочкам, в темном кинозале укромно пожимать ручку. Конечно же, как принято у них, в Европе, я должен был пригласить ее поужинать, и само ее согласие было б хорошим сигналом, что надежды мои небезосновательны, а симпатии — разделены. На ресторан денег не было, к тому ж ресторан не сулил немедленного вознаграждения, и я выждал день, когда моих родителей не было дома, только бабушка в дальней комнате, относившаяся к такого рода моим действиям с полнейшим пониманием и свою комнату не покидавшая.
Готовился я к приему гостьи так: свечи, салфетки, вино, кубинский ром, лимонный сок — на случай необходимости смешивания коктейля дайкири, — какие-то фрукты, но главное — цыплята табака под собственноручно приготовленным соусом, зажаренные мною под прессом, для чего использовались крышки от кастрюль с установленными на них под разными углами наклона банками, полными воды. Стол я накрыл в своей комнате, где предусмотрительно была приготовлена и постель, прозрачно прикрытая коротким пледом, — мне и в голову не приходило тогда, сколь неприлична по отношению к даме такая заблаговременность. Это лишь с возрастом мы научаемся здоровому фатализму и относимся к неудачам с таким же скепсисом, как и к скорым победам.