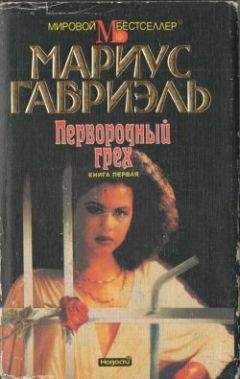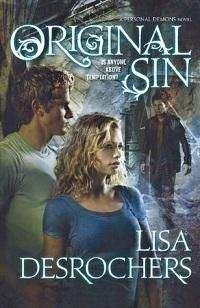Прямо в холодном вестибюле Мерседес, словно священник в исповедальне, по очереди выслушала торопливое бормотание каждой из пришедших к ней за помощью.
Брату нужно «подчистить» кое-какие факты в заведенном на него досье, изъять все материалы, касающиеся его симпатий к социалистам, чтобы он смог вернуться на работу в оркестр, а не шататься по улицам, где он на морозе за гроши играет на скрипке для прохожих.
Сын уже шесть месяцев без суда и следствия сидит в тюрьме, где умирает от туберкулеза.
Дочь арестовали за занятия проституцией.
– Сейчас всем приходится либо воровать, либо идти на панель, – печально, но без осуждения сказала женщина. – Иначе как выжить-то, сеньорита?
– Сделаю, что смогу, – пообещала Мерседес.
– Если бы полиция оставила ее в покое, она еще, может, встретила бы приличного человека. Кого-нибудь, кто бы позаботился о ней.
– Я постараюсь. – Сделав в своем блокноте необходимые пометки. Мерседес проводила женщин до двери, позволив им поцеловать руку и осыпать ее благословениями.
– Храни вас Бог, сеньорита. Храни вас Бог.
Одетый в униформу консьерж поспешил распахнуть перед ней дверь.
– Отвратительная погода, сеньорита. Смотрите не промочите ножки. – Он почтительно приподнял фуражку.
Она вышла и зашагала по Плаза-Майор, втянув голову в поднятый воротник своего кожаного пальто. Великолепные фасады построенных в восемнадцатом веке зданий невозмутимо взирали на бронзовую конную статую, возвышавшуюся в центре площади.
Более трех столетий эта площадь оставалась самой красивой и самой оживленной площадью города. Но как только Мерседес миновала ее, картина изменилась. Через четыре года после окончания гражданской войны в Мадриде, как и в Барселоне, все еще видны были следы бомбежек – разрушенные дома, пустыри, до сих пор закрытые для движения транспорта улицы.
Удручающая бедность чувствовалась в одежде людей, в их походке. Повсюду были голодные лица. Даже в этот ранний утренний час люди уже стояли в очередях за продуктами. Возле каждого магазина можно было увидеть толпу женщин с котомками. Тут и там рыскали мужчины с впалыми щеками в надежде раздобыть денег, чтобы купить чашку кофе и булку.
Когда Мерседес шла по улице, попадавшиеся навстречу люди, не поднимая глаз, уступали ей дорогу. Ее осанка и дорогая одежда выдавали в ней одну из тех, кто победил в недавней войне. Женщину, обладавшую властью.
При виде этих замкнутых, настороженных людей, у Мерседес разрывалось сердце. Они старались спрятаться при первом же проявлении силы. Их пугал любой мужчина в шинели, так как он мог оказаться секретным агентом, пугала даже прилично одетая женщина, и они спешили побыстрее убраться прочь.
В вагоне метро пахло сыростью и нищетой. Мерседес чувствовала на себе скрытые взгляды пассажиров. Мужчин больше интересовало ее лицо, женщин – фасон ее пальто и перчаток.
Какая-то девушка, одетая в тряпье, с нескрываемой завистью уставилась на ее мягкие кожаные сапожки. «Когда-то и я была такой же, как ты», – глядя на нее, подумала Мерседес. Она отвернулась к окну и стала смотреть в проносящуюся мимо темноту. Из оконного стекла на нее грустно взирало ее отражение.
Внезапно Мерседес почувствовала, что она уже больше не в состоянии контролировать себя. Сердце забилось, невыносимая боль стиснула грудь. Ей стало тяжело дышать.
Чтобы хоть как-то отвлечься, она вынула из сумочки скомканный листок и невидящим взглядом уставилась на него. Буквы на листке расплылись, но то, что там было написано, она помнила наизусть. В этом клочке бумаги заключался ответ на вопрос, который она задавала в течение двух последних лет.
«Нет, – решительно сказала себе Мерседес, – этим меня не возьмешь». Собрав волю в кулак, она заставила себя выбросить из головы сентиментальные чувства.
Это была убогая улочка, расположенная в рабочем районе Мадрида. Дом находился по соседству с табачной лавкой, в витрине которой был выставлен весь товар ее хозяина, – несколько лотков с высыпанными на них самокрутками. Мерседес позвонила в колокольчик и скорее почувствовала, чем увидела, что из-за выцветшей занавески ее оценивающе разглядывают чьи-то глаза.
Дверь открыла женщина лет сорока, небольшого роста, неопрятная, с коротко остриженными волосами.
– Теодора Пуиг? Я Мерседес Эдуард. Я пришла..
– Да, я знаю, кто вы, – грубо перебила женщина. Она отступила на шаг назад и кивнула головой в сторону коридора. – Заходите.
Мерседес вошла в дом.
– Мне сказали, что у вас есть информация о моей матери.
У Теодоры Пуиг заблестели глаза.
– Я пригласила вас сюда вовсе не из сострадания. У меня есть информация, которую я готова продать. Бесплатно я говорить ничего не буду.
– Я заплачу. Мне сказали, вы были с моей матерью в последние месяцы ее жизни. Это правда?
– Идите за мной. – Теодора Пуиг провела Мерседес в маленькую гостиную, заставленную когда-то бывшей вполне приличной мебелью и всякими покрытыми пылью безделушками. Над камином висела написанная маслом картина с изображением Христа, перст которого покоился на Священном Сердце. – Настоящий кофе предложить не могу, – сказала она. – У нас его просто нет. Мы пьем желудевый. – Ее злые глаза уставились на дорогую одежду Мерседес. – Мы же не смогли так пристроиться, как некоторые.
– Сколько вы хотите за свой рассказ?
– Тысячу песет.
В сумочке Мерседес лежало гораздо больше денег. Она кивнула.
– Хорошо. Вы получите эту сумму. Но только после того как изложите все, что вам известно.
– Деньги вперед.
– Нет, – спокойно проговорила Мерседес. Женщина язвительно рассмеялась.
– Чтобы вы потом оставили меня в дураках?
– Сеньора, я же дала вам свое слово.
– Ваше слово? – Теодора Пуиг презрительно плюнула. – Слово предательницы и шлюхи?
Мерседес почувствовала, как к щекам хлынула краска. От гнева у нее засосало под ложечкой.
– Я хочу знать, что случилось с моей матерью. Где и как она умерла. Так вы знаете что-нибудь? Или вы просто морочите мне голову?
– О, я все знаю, – ответила Теодора Пуиг.
– Где вы познакомились с моей матерью? В Аржелесе?
– Нет, задолго до этого. Еще по дороге во Францию, в конце гражданской войны. В январе тридцать девятого. Вы знаете, каково там было?
– Могу себе представить, – все так же спокойно сказала Мерседес.
– В вашем-то кожаном пальто и в этих сапожках? Сомневаюсь я.
Теодора Пуиг прикурила сигарету. Дым, который она выдохнула, был густым и едким. Мерседес сидела и терпеливо ждала. Женщина замолчала, устремив остановившийся взгляд в угол комнаты.
– Идти нам приходилось ночами, – наконец снова заговорила она, – потому что днем нас поливали свинцом самолеты. Так что в светлое время суток мы спали под заборами и в сараях, а с наступлением темноты шли Матери несли детей; мужчины тащили пожитки. Тех, кто был не в состоянии идти, везли на ручных тележках. На той дороге нас собралось много сотен. Раненые, слепые, старики… Целая армия оборванцев. Ваши мать и отец, они постоянно были вместе. Для меня навсегда останется загадкой, как вашему отцу – с его-то ногами – удалось пройти такое расстояние. Он страшно страдал. А ваша мать несла ребенка какой-то женщины. Вернее, сначала она тащила чемодан, но через день бросила его и взяла на руки ребенка. – Теодора Пуиг выпустила струю дыма. – Вот такая она была, ваша мать.