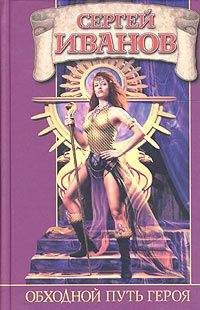– Женечка, держи. Зажимай. Пожалуйста!
Она вложила ему полотенце в действующую руку. Маша распахивала наугад шкафы и полки в поисках аптечки. Аптечка нашлась в девичьей. Маша вытряхнула содержимое на кровать. Вот невскрытый пакетик с марлевым тампоном и огрызок бинта. Маша схватила все и подбежала к Жене. Рука его, сжимавшая полотенце, отвалилась безвольно. Тампон тут же набух и покраснел. Бинт, едва развернувшись, кончился, не опоясав тело даже одного раза.
Маша вернулась в девичью, содрала с постели простыню и попыталась ее разорвать на лоскуты. Прочная ткань даже не думала поддаваться. Маша кинулась на кухню. В ящике не было ни одного ножа, ни одного столового прибора. Все было спрятано от воров и шпаны. Лишь бесполезные пластмассовые привезенные с собой ножики и посуда. Маша остановилась над Женей, лежащим с прикрытыми глазами. Но раздумье длилось не более секунды. Она стащила через голову еще чуть сырую белую с кружевами блузку. Тончайшая, на все согласная ткань легко затрещала под руками. Маша связывала длинные ленты, туго, что было силы, опоясывая Женю поверх раны.
Женя тихо застонал. Глаза его открылись и гримаса, подобная улыбке, скривила разбухшие губы:
– Жё-ёна…
– Тсс, молчи, тебя нельзя разговаривать, – решила из каких-то подсмотренных в кино соображений Маша.
– Ты меня… любишь?..
Вместо ответа Маша неожиданно заревела. Как гроза, собиравшаяся с неотвратимой настойчивостью задолго и все равно нежданная, с внезапной яростью обрушившаяся на тебя, когда ты вовсе оказываешься к ней не готов, так развязка их с Женей раскола взорвалась, накрыв их волной реальности, которая была страшнее всего, что Маша могла себе вообразить. Вся немыслимая напряженность последних дней и последнего дня выливалась в слезах, которые, Маша считала, она уже разучилась проливать.
Женя поднял левую руку и положил ей на обнаженное плечо.
– Не плачь. Мы теперь… вместе. Поцелуй… меня.
Она нагнулась к его разбитым, опухшим губам и ощутила их соленый от крови вкус. Она едва касалась его, боясь причинить ему новую боль, но он, сдвинув ладонь на ее шею, пригнул ее к себе, и она почувствовала, как проваливается в такое недавнее и такое недосягаемое теперь счастливое прошлое.
– Женечка, ты меня слышишь?
Он вновь открыл глаза.
– Жень. У меня ребенок будет…
– У нас… Правда?..
Маша только кивнула.
– Жаль… что я не могу… подхватить тебя… на руки…
Он перевел дыхание.
– Какая… ты… красивая. Тебе надо… одеться. Ребята… придут.
Они вломились шумной, но тут же омертвевшей толпой. Потом появился Гарик. Девчонки шепотом переговаривались, тенями слоняясь по комнате. Ребята исчезли. Все, даже маленький Максимка. Дик захлопнул дверь перед носом кинувшейся за ними Гавроша. Маша видела Громилу, прошедшего через сад с ломиком, который он играючи нес в руке. Гарик ушел с ними.
«Скорая» не спешила. Наташа боялась, правильно ли Гарик объяснил адрес и проезд.
Мальчишки вернулись не скоро и еще более злые, чем уходили. Они отловили только лопоухого шкета, но, так и не решив, что с ним одним делать, отпустили.
– Ничего, – мстительно произнес Громила. – Я этого знаю.
Гаврош не вынесла мучительного ожидания. Она взяла Гарьку, и они бегом рванули в воинскую часть.
Из зеленого батонообразного УАЗика выскочили Гарик и Гаврош. Немолодой дежурный офицер с капитанскими погонами пропустил вперед девчонку-медсестру в белом обтягивающем халате. Маша нависала над Женей, не отходя, пока медсестра снимала повязку.
– Кто его перевязывал? – спросил офицер с усталым мрачным лицом.
– Я.
Офицер взглянул на Машу, на Женин пасхальный светло-замшевый пиджак, надетый на ее голое тело, но ничего не сказал.
Маша полезла в машину, вслед за носилками.
– А кто-то из взрослых есть? – остановил ее офицер.
– Я.
– И никого из родственников?..
– Я – жена, – произнесла Маша спокойно.
Гаврош, стоявшая рядом, вскинула голову. Офицер устало вздохнул, убирая руку. Инга в последний момент сунула в карман Жениного пиджака нетолстую пачку общественных денег, шепнув:
– Пусть везут в Склиф. Я позвоню маме – там примут.
Дверца захлопнулась. Машина отъехала.
26 июня, вторник. Выпускной вечер
Месяц. Целый месяц между отчаяньем и надеждой.
Перитонит. Маша никогда раньше не знала, что смерть может скрываться в словах. Они могут быть беспощадно жестокими, эти слова. Совсем как люди. Но с людьми еще можно хоть что-то сделать. От слов еще не придумали избавления. Маша не могла его защитить, но она не могла согласиться с тем, что все, что придумывало человечество за столько веков, оказалось беспомощно перед одним страшным словом, которое нельзя было увидеть, осязать, вырезать из мучащегося организма, от которого нельзя было освободиться, спастись…
Что она ему могла дать, кроме своей единственной любви. Она отказывалась признавать, что есть в этом ужасном исковерканном людьми мире что-то, способное сравниться с ее любовью в своей силе. Она больше не надеялась на лекарства, капельницы, железные, напичканные электроникой приборы, которые каждый в отдельности и все вместе создавали лишь иллюзию борьбы за его жизнь. И лишь она понимала, что никто и ничто не сможет вытащить его, если она перестанет верить в спасение. Лишь они вдвоем в целом свете знали: пока ее сердце бьется в его груди – он будет жить.
Женю однажды уже переводили из реанимации, но на следующий же день его бегом вновь возвращали в прежнюю палату.
После последнего приступа Маша уже не выходила за стены больницы. Пока она держала Женю за его горячую бессильную руку, он не мог от нее уйти.
Мать Инги, заведовавшая в другом корпусе, помогла им с постоянными пропусками.
Неделю назад Женину маму увезли прямо из палаты с сердечным приступом. До этого они еще изредка сменяли друг друга, а то сидели обе молча, следя за частым, неглубоким дыханием сына и мужа. Женин отец, который теперь разрывался между двумя госпитализированными и оставленной на него младшей дочкой, прибегал с черным, осунувшимся и сразу постаревшим лицом, переговаривался с врачом, с Машей, садился на краешек табуретки, сидел, мрачно глядя на своего спящего такого необузданного еще недавно, а теперь такого беспомощного ребенка.
Ребята и Мама-Оля подъезжали к больнице каждый день. И хотя внутрь их не впускали, Маша сама спускалась к ним в условленное время, чтобы доложить об очередных безрадостных новостях. У нее с собой был Гариков мобильный телефон, и она могла заказывать, что принести, зная, что все, даже самая пустячная мелочь, такая, как свой градусник, будет доставлено в течение ближайшего часа, несмотря ни на какие экзамены. Про собственные экзамены Маша не вспоминала. И ни разу никто из ее домашних не произнес в связи с этим ни слова.