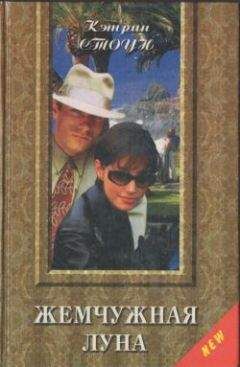Джулиана шептала свои слова ветру, а он сурово бросал их в лицо Гарретту. Закончив говорить, она услышала только свист ветра; казалось, он плакал, завывал столь громко, что она не услышит удаляющихся шагов, когда Гарретт с отвращением покинет место, где их околдовала любовь.
Джулиана была совершенно уверена, что он ушел, и она уже хотела повернуться, чтобы увидеть, как он уходит, взглянуть на него в последний раз.
Но вдруг она услышала его голос:
– Но ведь ты пыталась позвонить мне, Джулиана? И мои родители отказали тебе в разговоре со мной?
– Нет, Гарретт, я не звонила тебе. Ты же знаешь, что я считала нашу любовь запретной, опасной для всех нас.
– Но… Джулиана…
Теперь она слышала в его голосе только холод, такой же жестокий и убийственный, как холод ветра.
– Извини! Я знаю, что я сделала… чем я стала…
– Чем ты стала?
– Я продала свое тело. Я стала прост…
– Ты стала настоящей матерью, Джулиана! Взгляни на меня!
И снова в его голосе слышались только теплые нотки; когда она повернулась к нему, движимая одной лишь надеждой, то встретила печальный и нежный взгляд его темно-зеленых глаз.
– Ты спасла жизнь нашего ребенка, Джулиана. Ты сделала это ради нее, ради нашей дочери. Во всем виноват только я. Я виноват в том, что тебе пришлось перенести… это.
– Бартон не был жесток, Гарретт. Через девять месяцев он уехал в Лондон и никогда больше не возвращался в Гонконг. И кроме того, тебе нужно узнать кое-что о Мейлин, Гарретт.
– Мейлин, – повторил Гарретт, и его голос звучал так же нежно, как в тот день, когда она сказала ему, что у них родилась дочь… его вторая дочь. – Мейлин?
– О ее детстве, – прошептала Джулиана. Она сама изъяла Гарретта из детства Мейлин, и теперь нужно было рассказать ему, какую чудовищную цену пришлось заплатить их дочери за это. – Я думала, что она счастлива, а она просто оказалась талантливой притворщицей. Мейлин так ловко спрятала свои трудности, что пока ей не исполнилось тринадцать лет, я ни о чем и не подозревала.
– Какие трудности, Джулиана?
– У нее глаза такие же зеленые, как у тебя, Гарретт, а кожа белоснежная. Она была очень красива, но одноклассники травили ее за то, что она не похожа на них, за то, что она лишь наполовину китаянка. Я должна, должна была знать, как не любят метисов! Когда я жила в Абердине, меня учили ненавидеть всех гуйло. Мне говорили даже, что нужно презирать и тех китайцев, что по глупости смешали свою кровь с кровью иностранцев. Но я забыла эти уроки ненависти. Я влюбилась в тебя, и Мейлин была нашей дочерью, так что я думала только о любви, а не о нетерпимости.
– Таким должен когда-нибудь стать весь мир, – ответил ей Гарретт, у которого саднило сердце; редкая красота его дочери стала для нее не доказательством того, что она и в самом деле Дочь Великой Любви, а источником позора. – Расскажи мне, что случилось, когда ей исполнилось тринадцать.
Джулиана глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, но только обожгла горло ледяным воздухом.
– В «Форчун» напечатали статью о тебе. Я сказала ей, что ты был англичанином и погиб еще до того, как она родилась, но что ты любил бы ее всем сердцем. Но я еще сказала ей, как тебя звали, потому что так она лучше чувствовала, что ты был реальным человеком. И кто бы мог поверить, это было просто нереально, чтобы маленькая девочка в Гонконге…
– Что ты такое говоришь, Джулиана?! Мейлин знает, что я жив? Она знала об этом с тринадцати лет, и все это время ненавидит меня?
– Она ненавидит нас обоих. Я рассказала ей правду о нас, о наших несчастьях и страхах, но она не поверила, что мы в самом деле любили друг друга. Она была слишком молода, слишком страдала, у нее было столько душевных ран… Она просто не поняла.
– Я тоже не понимаю тебя, Джулиана. – Теперь его голос был холоден, как ветер, в нем не осталось ни капли тепла, наоборот, он предвещал шторм. – Ты должна была сказать мне. Я должен был приехать в Гонконг, я должен был знать, что моя дочь знает, что я жив.
– Я испугалась!
– Из-за возможной мести рассерженного дракона?
– Да. – Джулиана оказалась лицом к лицу с этим разъяренным драконом и более всего опасалась его гнева. Гарретт мог причинить ей боль только одним способом – пробудив сладостные воспоминания об их страстной любви, и он именно так и поступил. Во мраке, царящем внутри ее души, начал разгораться крохотный язычок пламени, храбро, хотя и тщетно, пытавшийся противостоять буре в его глазах. Она знала, что скоро этот золотистый огонек погаснет; Джулиана Гуань приготовилась наблюдать за собственной смертью, как много лет назад «Спокойное море» наблюдала за смертью своих близких в бушующем море.
– Я боялась, Гарретт. Я в самом деле боялась. Но он не расслышал страха в ее голосе – он был слишком занят своими эмоциями, своими воспоминаниями, вращающимися подобно картинкам в калейдоскопе, – образ за образом, чувство за чувством, печаль за печалью…
– Если Мейлин знает, что я – ее отец, она знает и то, что Алисон – ее сестра.
– Да. Но она никогда не скажет об этом Алисон. Мейлин не такая жестокая… разве что по отношению к себе.
Летя в Гонконг, Гарретт строил разные планы, лелеял мечты. Конечно, он хотел познакомиться с одаренной архитекторшой, подругой Алисон. Уже это было бы исполнением одной мечты. Но сердце мечтало о большем: что найдется способ раскрыть правду, не причиняя слишком сильной боли.
А теперь оказывается, что Мейлин уже знает правду и уже пятнадцать лет эта боль терзает ее.
– Я должен встретиться с ней. – Его голос стал хриплым от волнения. – Я должен увидеть свою дочь, не верящую в то, что я люблю ее.
– И ты можешь сказать ей, что я во всем виновата, Гарретт! Я должна была сказать тебе. Это моя вина.
Только сейчас Гарретт расслышал в голосе Джулианы боль и муку. Он пристально посмотрел в ее глаза, на искаженное болью лицо – и понял, насколько он был жесток. Гарретт резко придвинулся к ней; но она только отшатнулась от него.
Боже! его любимая, боявшаяся драконов и судьбы, теперь сильнее всего боялась его самого!
– Джулиана, – прошептал он. – Я люблю тебя.
– Ты меня любишь? – повторила она. – Как это может быть?
– Может, – тихо ответил он. – Любил, люблю и буду любить.
В его глазах была любовь… и золотистые огоньки в ее глазах начали разгораться, исчезло выражение недоверия… осталась только любовь.
– Гарретт, я тоже люблю тебя.
– Джулиана, любовь моя, можно мне тогда прикоснуться к тебе? Ну пожалуйста! Неужели я не могу обнять тебя?
Они долго стояли обнявшись, почти не дыша, ошеломленные; любовь снова околдовала их.
Не разжимая объятий, они продолжали разговор.