– Ты неспокойный, – говорит Зизхан.
Не знаю, спрашивает он или утверждает. В любом случае спорить я не собираюсь.
– А как тут будешь спокойным, если понятия не имеешь, кто явится ко мне на свидание завтра?
– Мы все не знать, что бывать завтра, – говорит Зизхан. – Но каждый новый день носить надежда.
Я не в настроении слушать его лепет. Отгороженный от всего мира невидимой скорлупой, я лежу на койке. Да, день сегодня опять выдался паршивый. Таких в моей жизни было множество. Правда, один из них был наипаршивейшим: следующий после того, когда я сделал это.
Ночь после преступления длится вечно. Ты просыпаешься, ощущая, что в мозгу у тебя горит красная тревожная лампочка. Ты пытаешься не обращать на нее внимания. Пока есть надежда, пусть совсем слабая, что это все тебе приснилось. Ты цепляешься за эту надежду, как человек, сорвавшийся с обрыва, цепляется за травинку. Проходят минуты. Часы. А потом до тебя наконец доходит. Ты понимаешь, что давно вырвал травинку с корнем и теперь летишь в пропасть, сжимая ее в руках. Летишь, чтобы расшибить себе голову об острые камни реальности.
Я помню, как стоял на Лавендер-гроув, сжимая в руке нож. И слышал крики. Пронзительные крики, которые никак не хотели смолкать. Кто-то завывал в голос. Странно, мне казалось, это завывает мама. Но она никак не могла так громко кричать. Она лежала на земле, истекая кровью. Крики, стоны, визг эхом отдавались у меня в мозгу. Я взглянул на свою левую, наиболее сильную руку. Она висела как плеть, словно ее прикрепили к моему телу лишь на время и сейчас скрепы ослабели. Я зашвырнул нож под припаркованную рядом машину. Если бы это было возможно, вслед за ножом туда же полетела бы и моя рука.
Потом я побежал. На моей куртке остались пятна крови. Не знаю, почему никто меня не остановил. Так или иначе, этого не случилось. Я мчался по улицам и переулкам, не имея ни малейшего понятия, куда бегу. Наверняка я пересекал улицы в неположенных местах, налетал на прохожих, пугал собак. Ничего не помню. Примерно полчаса я бежал словно в беспамятстве и очнулся, только когда увидел телефонную будку.
Я позвонил дяде Тарику и рассказал ему о том, что сделал. На другом конце провода повисло молчание. Я подумал, дядя меня не расслышал. И повторил все снова. Сказал, что наказал маму за недостойное поведение. Теперь она вряд ли возьмется за старое. Сказал, что рана не опасная, но, конечно, пройдет какое-то время, прежде чем мама поправится. Я ударил ее в правую сторону груди. Чтобы она поняла, сколь тяжкий грех совершила. Теперь у нее будет время осознать свой грех и раскаяться. А что касается его, этого подонка, он наверняка испугается до смерти и больше не приблизится к ней на пушечный выстрел. Пятно с нашей семейной чести смыто.
– Как ты мог, сынок? – Дядя говорил очень тихо, словно ему не хватало воздуха. – Это ужасно.
Я был ошеломлен.
– Н-но… т-ты ж-же с-сам с-с-сказал…
– Ничего я не говорил, – отрезал дядя.
Человек, который открыл мне глаза на то, что происходит с мамой, человек, который настойчиво твердил, что я должен положить этому конец, внезапно растворился в воздухе, как мираж. Я молчал словно громом пораженный.
– Искендер, сынок, ты должен явиться с повинной. Мне придется сообщить полицейским о твоем звонке и сказать, что я дал тебе именно такой совет. Не можешь же ты всю жизнь провести в бегах, – донеслось из трубки.
В голове у меня внезапно мелькнуло подозрение. Похоже, дядя Тарик заранее отрепетировал этот разговор. Он ждал моего звонка. Догадывался о том, что я скажу, и подготовил ответные реплики. Наверное, он уже придумал, что будет говорить на следствии и на суде… Да, дядюшка все предусмотрел.
– Сынок, где ты? Скажи мне, где ты?
Я повесил трубку. Снял куртку и затолкал ее в урну. Потом двинулся на Альбион-драйв, к дому Кэти. Я много раз бывал около ее дома, но никогда не заходил внутрь. Я позвонил в дверь. К моему великому облегчению, открыла сама Кэти. Увидев меня, она просияла:
– Алекс, какой сюрприз! Милый, я знала, что ты придешь.
Она схватила меня за руку и затащила в холл. Сказала, ее мать будет очень рада, узнав, что я решил жить с ними, потом обняла меня. Ее живот, твердый и круглый, торчал между нами. Неужели она всего на четвертом месяце? Казалось, она проглотила футбольный мяч.
Я спросил у Кэти, где ванная. Вымыл руки. Отражение в зеркале было таким же, как вчера. Таким же, как раньше. Я ожидал, что мое лицо, мои глаза как-то изменятся. Но они остались прежними. Я снова вымыл руки. Я тер их изо всех сил. Мыло пахло розой. Я открыл стенной шкафчик и обнаружил бутылку с отбеливателем. На бутылке была изображена хорошенькая домохозяйка. Она радостно улыбалась, демонстрируя белоснежные зубы. Я налил отбеливателя себе на руки. Ладони мои были порезаны в нескольких местах, и я едва не взвыл от боли. Закусив губу, я опять принялся тереть руки. Под ногтями что-то темнело. Грязь? Краска? Кровь? Мне никак не удавалось это смыть.
Кэти вошла в ванную и спросила, почему я так долго вожусь. Она обняла меня, любуясь нашим общим отражением. В зеркале мы были все вместе: я, она, наш ребенок. Она расплылась в гордой улыбке. Про себя я отметил, что она похожа на девушку с бутылки с отбеливателем. Обе лучились радостью.
Кэти закрыла кран:
– Хватит плескаться, любовь моя. По-моему, ты достаточно чистый.
Мы вошли в гостиную. Мать Кэти сидела в кресле у окна и ждала нас. На ней было свободное шелковое платье с запа́хом, в вырезе которого проглядывали груди. Ярко-голубое. Такие наряды я видел только по телевизору. Веснушки, сплошь усыпавшие шею женщины, походили на крошки мускатного ореха. Волосы тщательно причесаны, словно она собиралась поужинать в шикарном ресторане, но в остальном вид у нее был вполне домашний. Я старался смотреть ей в лицо и не соскальзывать взглядом ниже.
Миссис Эванс предложила мне чаю в чашке из костяного фарфора. Пирожные с фруктами. Мы ели в молчании. На стенах висели фотографии в рамках. Множество фотографий. На некоторых был отец Кэти. Он не производил впечатления человека, способного бросить семью. Миссис Эванс исподтишка наблюдала за каждым моим движением. Мне казалось, она заметила темные ободки у меня под ногтями. Я спрятал руки под стол.
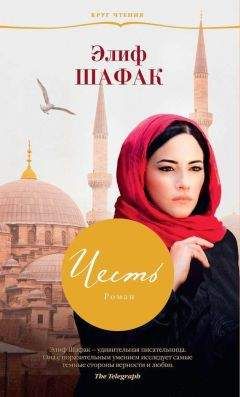



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)