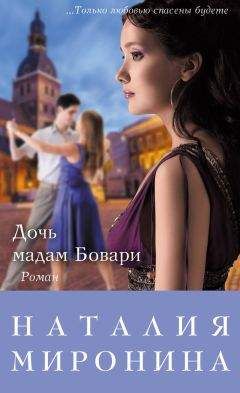Вадим Костин выглядел счастливым, хотя на самом деле счастливым не был. Любовь к Берте и дочери оказалась не наградой, нашедшей его в зрелые годы, а настигшим наказанием за прошлое. Тайна, которую он хранил в себе, казалась ему непомерным грузом, а страх, что Берта все узнает и уйдет от него, заслонял радости позднего отцовства. «Если бы я был уверен, что она все правильно поймет! Я теперь знаю, зачем нужна семья, – думал он, – чтобы не так страшно было открывать ящик Пандоры». Даже размышляя о семейных «X-файлах», Костин оставался писателем.
И все-таки Берта узнала историю своей матери. Узнала, разбирая вещи Вадима и наткнувшись на небольшую книжицу под названием «Клубок сплетен». Раскрыв ее посередине, она начала читать и через некоторое время обнаружила, что очень многое ей уже знакомо. Берта не могла понять, слышала ли она что-то из этого в детстве в путаных и не очень ясных разговорах родных, или Лиля Сумарокова, обожающая воспоминания, нечто подобное уже рассказывала. Было ясно одно, что именно сейчас Берта, как никогда близко, подошла к той тайне, которая окружала ее мать.
– Лиля, я у Вадима нашла эту книжку, – Берта протянула собеседнице найденную книгу. Они с Сумароковой пили под березами чай и наблюдали, как маленькая Лиля пытается сесть на большой мячик.
– Надо же, сохранил… А мне божился, что сжег весь тираж, ну, кроме того, что уже успели купить. Впрочем, твой муж всегда был склонен к театральным жестам.
– А почему он его хотел сжечь?
– Беды много наделала его книжка. Видишь ли, он в своем романе описал нашу молодость. Ох, и зачем он это сделал?!
– Я прочитала немного. А под фамилией Мансурова он описал вас?
Покрасневшая Лиля испугалась:
– Господи, Берточка, это все давно позади, все забыто! Ты даже не забивай себе голову подобной ерундой… – Сумарокова в волнении достала из необъятной сумки сигареты. – Да, у нас был безумный роман, он просто преследовал меня. – В ее голосе послышались горделивые нотки, – но для меня на первом месте была работа, потом Георгий, а потом уже он. Я даже поначалу думала, что Вадим таким образом мне отомстил. Он же любил быть первым. И пользовался потрясающим успехом. Из-за него даже одна из наших сотрудниц покончила с жизнью.
При этих словах Берта отложила книжку и осторожно, боясь спугнуть сумароковские воспоминания, поинтересовалась:
– Даже так?!
– О да. Была у нас одна очень талантливая сотрудница. Отлично писала, если бы не умерла, всех бы нас за пояс заткнула. Но, к несчастью, влюбилась в Вадима. А знаете ли, Берточка, есть такие натуры, которые не любят, а душат. Не дружат, а опутывают цепями… И все это совершенно бескорыстно. Правда, от этого страдают в основном они. Кстати, Вадим тоже из таких, но у него к этому примешивается немного мужского бахвальства, – Сумарокова, которая бросила курить лет пять назад, с наслаждением затянулась сигаретой, – Костина вообще отличал необычный для тогдашнего советского человека образ мысли. Он, например, считал, что красивым позволительно гораздо больше, чем некрасивым. Или…
Пока Сумарокова с упоением обсуждала Костина, Берта сидела не шелохнувшись. Она боялась, что разговор о тех временах иссякнет, что Лиля отвлечется, испугается, и это помешает ей, Берте, узнать всю историю.
– Он никогда не спорил. Он просто забирал материал и уходил. Но он всегда был уверен, что напечатают. А какой фильм он снял. Рассказывали, Ростропович сам звонил, благодарил… Уж не знаю, правда ли это, может, Вадим все сам выдумал?
– А та история с вашей сотрудницей…
– Ах да. Понимаешь, Берта, она влюбилась. Влюбилась, как можно влюбиться только в Вадима…
При этих словах Сумароковой Берта, несмотря на напряжение, улыбнулась. Было очевидно, что то прошлое, такое красивое и мятежное, не отпускает Лилю.
– Понимаешь, она была очень молода. Впрочем, как все мы, но она… даже не знаю, как тебе сказать. Вот представь себе, женщина влюбляется, выходит замуж, рожает детей и полностью растворяется в этой своей жизни. Она исчезает для всех. Вроде она ходит, говорит, рассуждает. Но это не она, это он, ее муж. Она ходит за ним, говорит его словами, рассуждает как он. А потом муж умирает, – при этих словах Сумарокова характерно сложила руки на груди, – и как ты думаешь, что происходит с этой женщиной?
– Тоже умирает?
– А вот и нет! Такие, как она, расцветают, раскрываются заново и удивляют этим всех. В них вдруг находят красоту, ум, обаяние. И этот отрезок жизни они проживают ярко, самобытно. Они перерождаются в одиночестве, как будто с них сняли чехол и к ним хлынул солнечный свет. Жизнь в тени – она бесцветна. Их добровольная жертва лишила их красок, лишила собственного «я». Это такая высшая форма мимикрии – от любви. Но, видишь ли… – Сумарокова перевела дух, – Вадим, конечно, поступил непорядочно. И по отношению ко мне. У нас с ним отношения были в тот же самый момент, но особенно по отношению к ней. Она любила его, и эта любовь поглотила ее без остатка. Они встречались, но Вадим поступал, как поступают очень многие мужчины. Он спал с ней, спал со мной. Мне объяснялся в любви и звал замуж, а у нее зализывал раны после моих укусов. Видишь ли, Берта, я тогда не хотела замуж за Костина. Мне и в семье с Георгием Николаевичем было тесновато. Я мечтала о грандиозной славе, карьере, о своих книгах. Я ее плохо знала, а вернее сказать, я мало кого тогда замечала. Мне была интересна я сама. Ну, встречались в коридорах редакции да на планерках, но так чтобы о чем-то серьезном разговаривать… Нет, я ничего не могу сказать. Миловидная, очень улыбчивая. В ней было что-то, что сразу же располагало, поэтому ей всегда удавались интервью. Она не забивала собеседника, как часто случается с нашим братом журналистом. Но мне всегда было странно, что она так поступила. Все-таки в ней чувствовалась сила. Это сейчас уже сложно объяснить, но было что-то, что выделяло ее из всех нас… – Сумарокова замолчала и уставилась на маленькую Лилю. – Может, то, что у нее был ребенок. Она рано родила, с мужем очень быстро развелась. Никто его никогда не видел. Как и дочку.
– У нее была дочь?
– Да, говорили, что у Ларисы Гуляевой была дочь. Но она никогда с ней нигде не появлялась… – Лиля Сумарокова продолжала говорить, не замечая, что ее собеседница словно окаменела.
Странное это ощущение – ощущение горя. Старого, которое ты не помнишь, а скорее всего, не знаешь. Горя, которое коснулось тебя отдельными фразами, вздохами, небольшими вещицами, запахом духов и камфоры в большом платяном шкафу.
Кто из твоих судей мог знать, что ты испытала, что пережила, чем были наполнены твои дни. Им кажется, что ты такая, каких сотни, – холодная расчетливая стерва. Но они знать не могут, что выросшие среди стариков обречены либо на слабость, либо на силу. Ты выбрала силу, а сила не всегда приглядна. Что ты помнишь из детства?