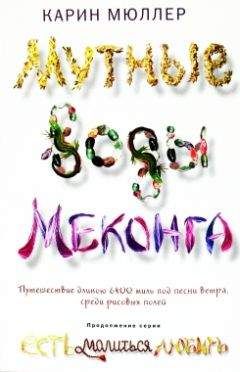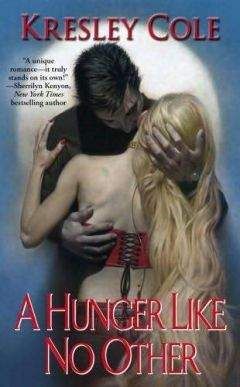— Присядь, Зоя, — пригласила Фифа, указав на свободный стул.
Зоя села, ожидая, что будет дальше.
Старуха протянула ей одну из фотографий, где она молодая, с букетом цветов стоит на набережной Свислочи.
— Даже не верится, что я была такой. Если бы не фотографии, то позабыла бы вовсе. А это так страшно — не помнить себя. А вот ты! Смотри. Мы с Михаилом Степановичем еле уговорили тебя сняться. Ты все отнекивалась, отмахивалась, закрывалась, как деревенская кокетка. Но мы не отстали. Помнишь? Вот какая ты… Мы с детьми гуляли тогда по Троицкому предместью, а ты ела мороженое, и оно выпало у тебя из рук прямо на кофточку. Было так смешно… Господи, все сейчас, наверное, отдала бы, только бы снова погулять по набережной возле Троицкого! Увидеть эти славные черепичные крыши — кусочек старого Минска. Я ведь родилась здесь. И прожила большую часть жизни, если не считать эвакуацию в Ташкенте. А вот посмотри…
Анжелика Федоровна достала из кучи фотографий снимок, на котором запечатлена маленькая Анюта. Фотограф по художественной традиции тех лет вручил ей телефонную трубку и повернул ее голову чуть в сторону. Анюта лукаво улыбалась, словно слышала в трубке что-то очень забавное. И почти сразу Зоя вспомнила тот день, когда был сделан снимок. Майские грозы сменяли друг друга, дни чередовались то душной июньской влагой, то прохладой, свойственной концу марта. Они все вместе были на кукольном спектакле, а потом гуляли. Анюта почти не капризничала. Счастливая девочка пяти лет. Зоя помнила ее именно такой. И тоже была счастлива в тот день, когда они смеялись и ели мороженое. Никогда Зоя не желала дочери судьбы, которую та сама себе выбрала. И не могла представить, что все так обернется. Ведь глядя на ребенка никогда нельзя сказать, каким он станет в будущем. На лбу ведь у него не написано. Но в короткий миг, когда ребенок шагает по земле, держа за руку маму, его будущее видится в розовом свете. Как только руки разъединяются, ничего потом уже нельзя сказать наверняка.
Зоя бережно держала фотографию, не в силах вымолвить слово. Никогда не любила она копаться в старых фото и не понимала Фифу, которая в свое время частенько проводила вечера, разглядывая черно-белые снимки. А теперь вот как накатило что-то. Из самой глубины поднялась теплота, которой Зойка уже давно не ощущала. Как будто брела по снежной, воющей ветрами пустыне и вдруг нашла уютное убежище. Так и было. Чего у нее не могла отнять Фифа, так это счастья материнства. И, наверное, не важно, что случилось потом. Для Зои необыкновенно ценны те далекие мгновения и те чувства, которые она испытывала, впервые прижимая к себе свои розовые, родные, кричащие комочки, плоть от плоти ее, принадлежавшие только ей и никому больше. Да, счастливой свою жизнь Зоя не могла назвать, но что у нее осталось бы, не будь этих воспоминаний и этих чувств?
— Она была милой девочкой, правда? — сказала Фифа. — Умной и способной.
— Да, наверное, — согласилась Зоя, беря другую фотографию, которая запечатлела молодую Фифу и Михаила Степановича. Мишка и Анюта стояли рядом, держась за руки. Снимок сделали на даче. Помнится, к Заболотским приехали гости, и она, Зоя, возилась на кухне с обедом. Она не хотела брать детей, но Фифа настояла. Как всегда.
— Время — такая жестокая штука. Годы пролетели, кажется, в один миг. Если бы не фотографии, ничем нельзя было бы доказать, что это не так. Как ты думаешь?
— А разве мы обе — не доказательство?
Старуха захихикала.
— Да уж! Две надоевшие друг другу старухи как никто могут это понять. Мы ведь всегда понимали друг друга, — Фифа сделала совершенно неожиданный жест, тепло прикоснувшись к ее руке.
Зоя насторожилась, но руку не отняла.
— Ты сердишься на меня? — спросила бывшая хозяйка.
Зоя всмотрелась в ее морщинистое лицо, попытавшись обнаружить и разоблачить насмешку или что-то похожее, но ничего не нашла. Ласково сказала, винительно. Умела ведь так — не извиняясь, просить прощения.
— За что я должна сердиться на тебя? Не в тех я чинах, чтобы сердиться.
— Перестань прибедняться! — нетерпеливо поморщившись, взмахнула рукой Анжелика Федоровна. — Оставь эту лакейскую привычку. Я всегда считала тебя членом своей семьи. Тебя и твоих детей.
— Я тебя об этом не просила, — хмуро ответила Зоя.
— Пожалуйста, не начинай снова. Ты ведь все прекрасно понимаешь. И давай, наконец, обойдемся без этих глупых препирательств. Мне уже не так много осталось.
— Как же! Ты и меня переживешь.
— Нет, Зоя. Мне виднее. Можешь поверить. Чужая я здесь, в этом непонятном времени среди непонятных мне людей, которые ни на минуту не могут остановиться. Все бегут куда-то. И все за деньгами…
— А разве в наше время не бегали? — сдержанно возразила Зоя, встав из-за стола и заглянув зачем-то в комод с бельем. — Плохо скатерка-то отстиралась, — пробормотала вполголоса и громче добавила: — Может, похлеще еще бегали. То на стройки, то на целину, то в тайгу какую-нибудь. И за рублем бегали, и за десятью. Ты вот тоже на месте не сидела. Гастроль туда, гастроль сюда.
— Гастроль, гастроль, — недовольно пошамкала губами старуха. — Я тебе не о том хотела сказать. Да, что же это я хотела?.. Совсем из головы вон. Ах, вот! Ты бы их пригласила к нам.
— Кого? — обернулась Зоя с подозрительной скатертью в руках.
— Анюту и Мишу.
— А чего им тут делать? — изумившись, спросила Зойка.
Старуха на мгновение растерялась, а потом произнесла:
— Я их считаю и своими детьми, разве не понятно?
Робкая теплота, появившаяся с фотографией маленькой Анюты, уходила из Зойкиного сердца, как вода сквозь решето. Лучше уж молчала бы, старая!
— Так они никогда твоими-то не были.
— О чем это ты?
— Не твои они, вот так, — распалялась Зоя все больше, теребя в руках ненужную скатерть. — Детей ей позови! Только вот где они, эти дети?
— С ними что-то случилось? — ужаснулась старуха.
— Случилось. Тридцать лет назад случилось.
— Я тебя не понимаю, Зоя.
— Чего тут понимать? Связалась я с тобой себе на погибель. Все терпела. Думала, если не я, так пусть Анюта с Мишкой в люди выбьются. А оно вон как все повернулось. Не дети, а обломки какие-то. А все ты со своими подарками.
— Что же плохого в подарках, Зоя?
— Что плохого? Может, и ничего, — откуда-то из тайной, темной глубины души нашли дорогу к глазам слезы. — Да только жизнь ты нашу поломала. Сумела, ничего не скажешь. И мне, и им. Ты же из меня батрачку сделала! У меня жизни своей ни вот на полграмма не было. Всюду свой нос совала, все выпытывала. И детей к себе приманила!
— Зоя, Зоя, что ты говоришь? Как это, помилуй, приманила?