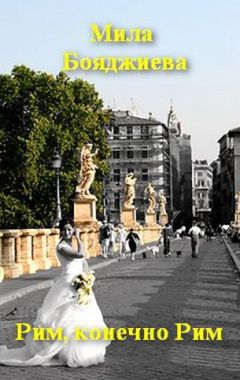Надо было верить в свой вымысел, и Алисе это удавалось без труда. Ведь скрип качелей был таким настоящим, провинциальным, бунинским, а взлетающая доска скользила над белыми венчиками сныти – сочного исконно русского сорняка, сплошь покрывающего в июне поляны и косогоры России. А к стволу старой яблони прислонился Он – ее герой с граблями в руках, в вылинявшей, выпущенной поверх брюк косоворотке Захара, провожая неотрывным взглядом взлетающие к полуденной синеве оборки пестрого подола. Его заморские глаза сияли открытым восхищением восточного мужчины, обмирающего перед женской прелестью.
Алиса воссияла в центре вселенной юноши с того самого момента, когда появилась в калитке у своего дома в сопровождении цветочных ароматов, в сквозящей солнцем легонькой юбке, туманным маревом обволакивающей длинные стройные ноги. Она лишь пристально посмотрела из-под золотистых ресниц, и, щелкнув, затикали в груди Филиппа особые часы, начав отсчет его новой жизни.
Специалист, по-видимому, обнаружил бы некую деформацию психики молодого человека, пережившего тяжелые потрясения. Но сам он не ощущал себя единой личностью, не подозревая аномалии. Он был арабским юношей, старшим мужчиной рода, воином и мстителем, вынашивающим идею возмездия. Он был учеником парижской гимназии, доброжелательным и восприимчивым, успешно обживающим и мансарду дедушки Мишеля, и саму версию своего европейского бытия.
Теперь же, с Алисой, Филипп стал абсолютным Возлюбленным, без прошлого, будущего и без всякой примеси иных мыслей и чувств в своем фантастическом настоящем, кроме любви и счастья. И когда Алиса однажды сказала ему по-русски «мой милый», он почувствовал, что всегда знал значение этих мягких голосовых переливов, так же как и светлую девушку, ставшую смыслом его существования.
Он допускал лишь одну возможность любить, причем именно здесь и так, как это случилось: на зачарованном островке неведомого океана чужого, не имевшего к нему никакого отношения мира. Куски жизни Филиппа, как обрывки разных кинолент в мусорной корзине монтажной, не могли соединиться в единый сюжет, существуя обособленно. Время, начавшее отсчет с появлением Алисы, принадлежало только ей и означало безумие. Сладкое безумие Единственной Любви, манящее и пугающее смертных.
Веруся – единственная наперсница Алисы – смотрела на влюбленных с горестным предчувствием.
– Хорош-то он, хорош, басурман чертов. Да откуда на нашу голову выискался… Боюсь я, Лиса, боюсь. Не по-людски как-то, не правильно, – качала она головой, отводя взгляд. Поднять глаза старая цыганка опасалась – столько темного страха металось в ее душе. Веруся предчувствовала беду, но помочь не могла, не зная даже, за кого молиться, как назвать иноверца, да и можно ли.
– Ничего, ничего, старушка, – успокаивала няню Алиса. – Пушкин тоже араб был, а Натали – первая красавица. Вот увидишь – все замечательно устроится! Мы так невероятно счастливы!
В сущности, придумывая варианты будущего, Алиса уговаривала сама себя: найдется семья Азхара, обеспечив ему какую-либо дипломатическую должность, ее отец сжалится и похлопочет в Министерстве иностранных дел или произойдет что-нибудь еще. Не важно – у сказок всегда счастливый конец. Она не хотела замечать, что, погружаясь в гипнотический омут этого колдовского лета, все больше удаляется от реальности.
Ведь маленький сеновал был таким настоящим, колким и ароматным, были темные вишни на тонких, пружинистых ветках, прохладная библиотека с любимыми книгами, которые можно было читать для Филиппа вслух, и дурман ситцевой спальни, в распахнутом окне которой на пестрой от движущихся солнечных бликов кисее дремали сытые, краснобрюхие комары.
Аромат политого из лейки укропа, выросшего-таки на клумбе, хилого, с длинными голенастыми метелками, свидетельствовал о реальности дивного летнего покоя. А ее Миленький, совсем не умеющий спать, всегда был рядом. Когда бы ни проснулась Алиса – в ночной черноте или в акварельной рассветной зелени, – его преданные, восторженные глаза смотрели на нее. Неподвижное изваяние восточного божества с тускло мерцающим серебряным медальоном на груди – подарком Алисы…
Не долго длилось «усадебное» лето влюбленных. За скандалом, разразившимся на юбилейном банкете, последовал ультиматум со стороны родителей: немедленное возвращение дочери домой и предоставление судьбы авантюриста компетентным службам.
Алиса предполагала подобный ход и готовила контрудар – на следующее же утро Александра Сергеевна, возвратившаяся домой, обнаружила пустые комнаты и плачущую, упустившую беглецов Верусю: поздно ночью Алиса с Филиппом покинули свой заколдованный островок.
Они поселились в дешевой маленькой квартирке на самом верху шестиэтажного дома. За широким окном, в рассохшейся, облезлой раме, виднелось нагромождение крыш, покрытых крашеной жестью или черепицей – старой потемневшей и поновее – почти оранжевой. Чужие балкончики и мансарды с цветочными ящиками, в которых еще вовсю цвела розово-алая кустистая герань, чужие окна, принаряженные кокетливым оборчатым тюлем или небрежно задернутые выгоревшими шторками, жили своей особой жизнью, которую Алиса с интересом наблюдала.
Вскоре она уже узнавала свои любимые окна, наливавшиеся вечерами малиновым или апельсиновым светом от уютных абажуров, свои приглянувшиеся балкончики, на одном из которых, почти визави, в солнечные дни колченогая инвалидка вывешивала клетку с попугайчиками.
С Филиппом же здесь творилось что-то неладное. Он метался, как загнанный зверь по длинной узкой комнате, и казалось, что стоит только приоткрыть дверь, и зверь вырвется, умчится в тот край их короткого счастья, где у пруда покачиваются под палой листвой пустые качели…
Все чаще Алиса видела в мерцании его сумрачных глаз тайный страх. Наверное, поэтому она так и не решилась рассказать ему правду об одном странном звонке в конце сентября, в самом конце теплого сентября. Телефон в квартире беглецов бездействовал, так что о нем практически забыли. Черный, с несвежей, уже затягивающейся грязью выщербленной у ступенчатого основания, он обиженно помалкивал среди каких-то старых журналов и растрепанных книг, небрежно и тесно засунутых на этажерку в процессе весьма приблизительной уборки. Когда ненужный аппарат вдруг подал голос, его надсадное верещание было столь злобным, что Алиса опасливо подняла трубку. Мягкий баритон с едва заметным акцентом вкрадчиво назвал ее имя:
– Мадемуазель Грави? Прошу прощения за беспокойство. Только крайняя необходимость заставила меня побеспокоить вас, вернее, обратиться за помощью. Речь идет о моем друге Азхаре Бонисандре, известном вам, скорее всего, под именем Филипп. Я имею для него сообщение чрезвычайной важности. Если бы мадемуазель подсказала мне, где я могу найти Азхара… Повторяю, речь идет о жизненно важном деле… – Голос звучал взволнованно, все сильнее обнаруживая округлый, как арабская буква, акцент.