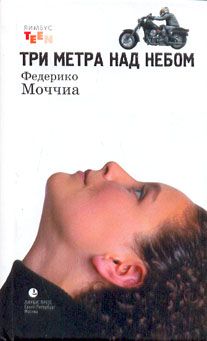— Вот так, дорогой Стэп, сегодня ты выучил еще один урок. Иногда на работе не нужны твои идеи, твои мысли, если ты сталкиваешься с властью… Ссориться с Микели — это все равно, что списать себя, попрощаться с планами на будущее. Он второй после Романи, — его голос становится грустным. — А я, знаешь, купил дом, взял кредит, и… я уже не тот аристократ, какие были прежде… в общем, тогда все было по-другому.
Дальше я уже слушаю вполуха. Он произносит куски скомканных фраз. Странные оправдания, кое-как склеенные между собой. Я ничем не могу ему помочь. Собираю последние листки и стучу кипой по столу, сбивая ее в аккуратную стопку. Потом со словами:
— Конечно, Марк-Антонио, я тебя понимаю, ты прав… — ухожу со сцены, сказав напоследок: — Может быть, и я поступил бы так же… — оставив, таким образом, этим своим «может быть» маленькое пространство для его достоинства.
Джин бы я не провел. Она бы сразу почувствовала мое вранье. Может быть. Я закрываю дверь и надеваю очки. Меня смех разбирает. Причем тут Джин?
Вернувшись домой, бросаю сумку в прихожей. Снимаю пиджак и слышу, как Паоло с кем-то разговаривает в комнате. У него гости или это телевизор? Паоло, улыбаясь, выходит мне навстречу.
— Привет… тебя ждет сюрприз.
Значит, это не телевизор. Там кто-то есть. И этот кто-то выходит в коридор, замирая в обрамлении дверного косяка, как в картине. Свет из окон в комнате очерчивает до боли знакомый контур, — это нежное видение так часто являлось мне в моей жизни, в прошлой жизни. Моя мать. Мама.
— Я кое-что приготовил, если ты голоден, Стэп, — говорит Паоло, доставая из шкафа свитер. — Все на столе — ешь, если хочешь.
Он повторяется — взволнован ситуацией. Не знаю, за что он переживает больше: за то, что я голоден или за блюдо, которое он приготовил. А может быть, мне именно его сейчас не хочется. Встретиться с мамой. Подумал он об этом или нет? Паоло выходит, оставив нас наедине. Вернее, в одиночестве, в котором мы остались после того дня. По крайней мере, остался я. В одиночестве, без нее. Без матери, без того образа, который был вдохновлен теми сказками, что она читала мне в детстве, теми историями, которые рассказывала мне, сидя возле кровати, куда я, подхватив простуду, любил забираться и сворачиваться клубком в этом тепле — одеяла и сидящей рядом мамы. Я знал, что она всегда рядом — рассказывает ли что-то, держит ли мне руку, трогает ли мне лоб, приносит ли стакан воды. Стакан воды… сколько раз, желая еще раз почувствовать ее присутствие, уже засыпая, я просил об этой последней услуге, чтобы вновь увидеть ее в обрамлении дверного косяка — другой двери, другой истории… Истории с моим папой. И этот великолепный рисунок, созданный ею и полный любви, сказки, мечты, очарования, света, солнца… Пуф! В один миг был перечеркнут. Увидеть ее в постели с другим.
— Привет, мама…
С другим мужчиной, непохожим на отца, и он — с моей мамой. С тех пор — темнота. Полная темнота. Мне плохо. Я сажусь за накрытый стол. Я даже не вижу, что там за блюда: при одной мысли о еде меня тошнит. Но это твой единственный путь спасения. Спокойно, Стэп. Все пройдет. Нет, не все. Боль, причиненная ею, все никак не проходит. Тот стакан воды… спокойно, Стэп. Ты вырос. Я выпиваю немного воды.
— Ну, как ты? Я знаю, ты работаешь… ты счастлив?
Счастлив? Это слово, произнесенное ею, вызывает у меня смех. Но я сдерживаюсь.
— Как тебе жилось в Америке? У тебя были проблемы? Там много итальянцев? Ты не думаешь туда вернуться?
Я отвечаю. Отвечаю на все вопросы. Пытаюсь улыбаться, быть вежливым. Именно так, как меня учила она. Вежливым.
— Посмотри, что я тебе принесла.
Она что-то вынимает из сумки, не из той, что я ей подарил однажды на Рождество, или на день рождения, не помню теперь. Но я прекрасно помню, что ту сумку я увидел на кресле в том доме, в гостиной… Постель другого, в которой была она, моя мама. Была. Была. Была. Хватит, Стэп. Перестань, перестань.
— Узнаешь? Это печенье, которое так тебе нравилось.
Да. Мне очень нравилось. Мне все нравилось, что ты делала мама. Теперь, взглянув на нее несколько раз, я впервые увидел ее снова. Мама. Она улыбается, держа в руках маленький прозрачный пакетик. Она кладет его на стол и снова улыбается, склонив голову набок. Моя мама. Теперь волосы у нее светлее. И кожа, кажется, тоже стала чуть светлее. Она, как и прежде, тонкая, а теперь выглядит просто хрупкой. Похудела. Вот именно, она, кажется, похудела, и кожа чуть подсохла от ветра. И глаза. Ее глаза чуть затуманены, как будто в них стало меньше света. Как будто кто-то, из злости ко мне, чуть притушил этот свет, оставив в полутьме нашу любовь. Мою любовь. Я делаю еще глоток воды.
— Да, я его помню. Я его очень любил.
Я против воли говорю в прошедшем времени, боясь, что даже это печенье потеряло тот вкус, который мне так нравился.
— Ты открыл мой подарок?
— Нет, мама, — я не могу врать, все еще не могу говорить ей неправду. И не только из страха быть раскрытым… я вспоминаю Джин и историю с глазами. Сейчас мне хочется улыбнуться. Уже хорошо. — Нет, мама, не открыл.
— Это невежливо, ты же знаешь.
Но она не ждет моих извинений, они не нужны. Ее улыбка говорит мне, что все в порядке, все хорошо, и она не сердится.
— Это книга, и я хотела бы, чтобы ты ее прочел. Она здесь?
— Да.
— Принеси-ка ее.
Она так мягко говорит, что я не могу ослушаться: я встаю, иду в свою комнату и тут же возвращаюсь со свертком. Кладу его на стол и разворачиваю.
— Вот. Это Ирвин Шоу. «Люси Кроун». Очень красивая история. Она мне случайно под руку попалась. И очень мне понравилась. Если найдешь время, я хотела бы, чтобы ты ее прочел.
— Хорошо, мама. Если будет время, прочту.
Мы некоторое время молчим, и хотя прошла всего минута, мне она кажется вечностью. Опускаю взгляд, но даже обложка книги не помогает мне пережить эту вечность. Я сворачиваю подарочную бумагу, но это лишь утяжеляет вес секунд, кажется, они никогда не пройдут. Мама улыбается. Она сама помогает мне пережить эту маленькую вечность.
— Моя мама тоже всегда складывала бумагу от подарков, которые она получала. Твоя бабушка, — она смеется. — Может быть, ты от нее это взял, — она встает. — Ну ладно, я пойду.
Я тоже встаю.
— Я отвезу тебя.
— Не надо, не беспокойся, — она тихонько целует меня в щеку и улыбается. — Я сама. У меня внизу машина.
Она идет к двери и выходит. Даже не обернувшись. Мне кажется, она устала. Да я и сам чувствую себя измученным. Не нахожу в себе тех сил, которые всегда в себе ощущал. Наверное, этот поцелуй был не таким легким, как показалось.