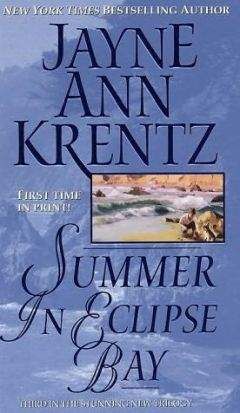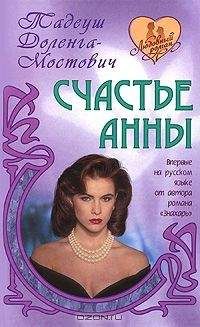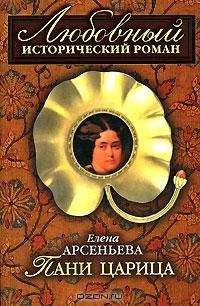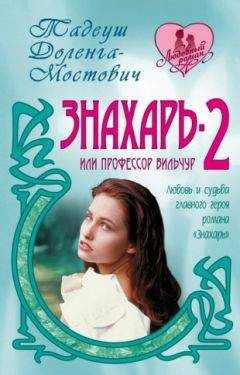– Здесь вовсе не так плохо,- пожала она плечами.
– Мне напоминает это,- продолжал он в задумчивости,- преддверие нирваны, как бы вход на кладбище. Здесь все замирает в ленивой монотонной тишине… Нет, вы не думайте, что я хочу внушить вам чувство отвращения ко всему этому. Вовсе нет. Мне только кажется непонятной расточительностью терять здесь свои молодые годы, самые лучшие годы жизни.
– Вы забываете об одном, пан Янек: бывают чувства, которые серое однообразие могут превратить в самую прекрасную сказку, которые то, что вы называете тоской и безнадежностью, способны превратить в безоблачное счастье.
Кольский пожал плечами.
– Разумеется. Я понимаю это.
– Нет, вы не понимаете. Понять это может лишь тот, кто сам способен на такое, кто способен почувствовать и пережить эти радости, кого они могут наполнить и удовлетворить. Вот вам тест на испытание: вы были бы способны для любимого человека отказаться от Варшавы, карьеры, денег, удовольствий, развлечений и поселиться в глухой провинции, например, здесь? Кольский почувствовал, как сердце его затрепетало, и ответил:
– Я бы смог.
Люция покачала головой.
– Не верю.
Он посмотрел ей прямо в глаза и отчетливо произнес:
– А вы проверьте. Скажите одно слово, только одно слово. Достаточно только одного вашего слова.
Люция растерялась: она не ожидала такого ответа. Она скорее ждала длинного вывода, основанного на рассудительной аргументации, объяснений в стиле, характерном для него во времена, когда она была еще в Варшаве. Теперь она знала, что он говорит правду, что действительно способен ради нее остаться здесь и не откажется от своих слов. У нее, конечно, не было намерений воспользоваться этим, но она была тронута и тем, что он сказал, и той переменой, которая в нем произошла. Только сейчас она заметила сеточку морщин вокруг глаз, похудевшее лицо и седые волосы на висках. Та озабоченность, которую она находила в его письмах, оставила след и на его лице. И не только на лице, но и в душе тоже. Он наверняка встретился с глубокими и тяжкими переживаниями…
И вдруг Люция поняла, что нужно, что она должна как-то вознаградить его за эти страдания, что она была очень резка и безразлична, что платила ему за его действительно большую любовь (потому что только настоящая любовь способна на жертвенность) черствостью, что осознанно не вникала в его внутренние переживания, зная, что сумела бы смягчить их, облегчить его страдания, даже не жертвуя ничем: достаточно было лишь теплого слова, сердечного взгляда или просто искренней заинтересованности.
Она мягко положила ему руку на плечо и сказала:
– Пан Янек, вы знаете, что я не скажу этого слова, не могу сказать. Но я прошу вас поверить мне, что я очень высоко ценю ваши чувства и, как я теперь понимаю, до сих пор не знала их настоящей ценности.
Он схватил ее руку и прижал к губам.
– Я хочу также, – продолжала она, – чтобы вы знали, что я считаю вас человеком очень мне близким, что меня очень волнуют ваши дела, ваши радости и горести и что вы всегда можете рассчитывать на мою искреннюю, глубокую и нежную дружбу.
После этого разговора в их отношениях многое изменилось. Кольский стал искренним и более непосредственным. Почти все время они были вдвоем. Емел, который раньше часто подолгу просиживал в больнице, разговаривая с Вильчуром, сейчас, во время его отсутствия, приходил сюда только на ночь. Большую часть времени он проводил в городке, в корчме или на мельнице, поскольку в последнее время подружился с Прокопом, к огорчению всего семейства. Прокоп на старости лет полюбил время от времени заглядывать в бутылку. Правда, он не пил так, как Емел, но и это не радовало ни его жену, ни остальных женщин. Весть об этом в больницу принесла Донка, и Люция искренне смеялась, рассказывая Кольскому об опасениях женщин с мельницы. Сама она не считала опасность угрожающей. А Кольский шутил:
– Это нельзя недооценивать. Вспомним о праотце Ное, который в очень преклонном возрасте пристрастился к вину.
Прошло три дня после отъезда Вильчура, и Люция начала беспокоиться.
– Я боюсь, не случилось ли с ним чего-нибудь, – говорила она Донке.
В присутствии Кольского из деликатности она не делилась своими опасениями. Она решила, что, если завтра профессор не даст о себе знать, нужно будет послать телеграмму в Варшаву.
Но как раз на следующее утро Василь, вернувшийся из Радолишек, принес письмо. Оно было написано рукой Вильчура. Письмо было не из Варшавы, а из Вильно. Удивленная Люция вскрыла конверт. Профессор писал:
"Дорогая панна Люция!
На обратном пути из Варшавы я заехал в Вильно. Для решения разных вопросов я должен буду задержаться здесь несколько дней, а может быть, и дольше. Поскольку Ранцевич не возражает, чтобы доктор Кольский остался у нас на некоторое время, я буду благодарен ему за помощь и замещение меня. Я надеюсь, что свое пребывание в нашей больнице он будет рассматривать как отдых. Мне было приятно, когда в Варшаве я узнал, что его там очень уважают, равно как и я его уважал всегда. Он толковый парень. Я уверен, что он великолепно справляется с моей работой в больнице. В Вильно я остановился у коллеги Ранцевича, который лечил меня, когда покусала собака. Мне здесь удобно и приятно, Поэтому не удивляйтесь, что я не спешу с возвращением. Передавайте всем привет. Целую ваши руки. Рафал Вильчур".
В конце письма был постскриптум: "Сам оперировал Добранецкого. Операция удалась. Пациент будет жить".
Для Люции письмо Вильчура было настоящим сюрпризом. Она прочитала его несколько раз и все никак не могла понять, что случилось. Прежде всего ее поразило сообщение о непредвиденной остановке в Вильно. Заставить Вильчура остаться там могла лишь болезнь. Но это никак не согласовывалось с еще более удивительной информацией: профессор написал, что оперировал Добранецкого сам. Это означало, что он как-то справился с дрожью левой руки. Все это казалось Люции каким-то таинственным. Если договаривался с Ранцевичем о том, чтобы задержать Кольского, значит, должен был уже в Варшаве знать, что не вернется сразу, а останется в Вильно на несколько дней. Если тогда был здоров, то что могло заставить его остаться в Вильно? Здесь могли быть уже только вопросы семьи. Неужели приезд дочери или зятя?.. Но в таком случае, почему он не упоминает об этом?..
Люция терялась в догадках. Наконец, она решилась спросить Емела, что он думает по этому поводу. Она предполагала, что профессор перед отъездом мог говорить с ним о каких-нибудь своих тайных планах.
Однако Емел ничего не знал. Прочел письмо и пожал плечами.