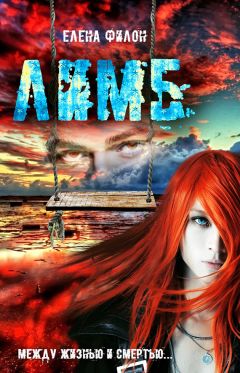Полина присоединилась к Изе, и общими усилиями они открыли тяжелую дверь. В темных сенях было почти так же холодно, как на улице, а внутри, в комнате, все-таки и правда потеплее. Иза сразу прошла на кухню, открутила вентиль на газовом баллоне и зажгла все конфорки на плите. Потом взяла с полочки банку с солью и бросила щепотку прямо в горящий огонь, который тут же ответил ей шипеньем и пыханьем.
– Мы всегда огонь кормим, – объяснила Иза. – Я хоть и крещеная, а все равно не помешает. Предки небось знали, что делали. Ты печку умеешь топить? – спросила она.
– Умею, – кивнула Полина.
Широкая печка-голландка стояла посередине небольшой комнаты, дрова были сложены рядом.
– Я растоплю, а ты потом дрова будешь подбрасывать.
Иза открыла дверцу печки, ловко сложила в нее несколько поленьев, вытянула вьюшку и разожгла огонь. Вообще в этом старом деревянном доме, в комнатке с печкой и с высокой панцирной кроватью, на спинке которой блестели металлические шишечки, а в изголовье горкой возвышались покрытые кружевной накидкой подушки, Иза смотрелась гораздо органичнее, чем в своей богатой гостиной с коврами.
– Ты ложись хоть поспи, – сказала она, распрямляясь и отбрасывая волосы с раскрасневшегося лица. – Я ставни закрытыми оставлю, поспи. У тебя и так время в голове перемешалось от перелета, да еще Платон со своим сексом кобелиным. Тут чистенько у нас, – сказала она, обводя рукой комнату. – Мы с Нинкой все как при бабушке держим.
В комнате действительно чувствовалась какая-то простая и давняя, не сегодня появившаяся основательность. Громко тикали часы на широком комоде, тускло поблескивали чашки и бокалы в невысокой посудной горке, некрашеные полы были застелены плетеными пестрыми дорожками. Такой же дорожкой был покрыт большой окованный сундук. Иза зажгла на столе настоящую керосиновую лампу под зеленым абажуром. Лампа не чадила и не коптила, а горела ровно и ласково, и от этого света комната выглядела еще уютнее.
Вся стена над комодом была увешана фотографиями в деревянных рамочках, и лица у людей на этих фотографиях выглядели так же, как все простые лица на фотографиях столетней давности, – напряженно, чуть испуганно. На женщинах были шляпки. В сочетании с их раскосыми глазами, широкими скулами и длинными косами это смотрелось трогательно и немного смешно.
– В общем, располагайся, – сказала Иза. – Я к тебе в обед заеду, поесть привезу.
– Да ну, я выйду, куплю чего-нибудь, – возразила Полина. – И так ты…
– Сиди уж! – засмеялась Иза. – Сама же говоришь, от собственной тени шарахаешься. Приеду, приеду.
– А это что? – спросила Полина, когда Иза уже стояла у порога.
Посередине кровати лежал какой-то сверток.
– А мамонтенок твой, – ответила та. – Понравился же тебе, ну и бери на память.
– Ой, Из, неудобно же! – воскликнула Полина. – Я если б знала, то не стала бы говорить, что понравился…
– Да ладно, – махнула рукой Иза. – Мне же тоже неудобно, – чуть смущенно объяснила она. – Будешь думать, что тут у нас дикари какие-то живут. А у нас люди вообще-то хорошие, доброжелательные. И красиво у нас, если весной приехать. Жарки расцветают, это цветочки такие, их еще якутскими лилиями называют. А то приезжай весной! – воодушевилась она. – На теплоходе по Лене поплыли бы, на Ленских Столбах вообще красота неописуемая. Скалы, река…
– Может, и приеду когда-нибудь, – улыбнулась Полина.
По правде говоря, меньше всего она думала сейчас о том, чтобы еще раз здесь оказаться. Унести бы ноги хоть в этот раз!
– Да не приедешь ты, – вздохнула Иза. – Пусть хоть мамонтенок на память останется. Я тебя снаружи закрою, – сказала она. – Так что ты спи, не беспокойся, я сама войду. Дров только подбросить не забудь, а то замерзнешь.
Когда Полина проснулась – то есть даже не проснулась, а словно бы вынырнула из какого-то тупого забытья, – в комнате было если не холодно, то все-таки и не тепло. Это было странно: она ведь подбрасывала дрова несколько раз, да и задремала только оттого, что ей наконец стало жарко.
Но раздумывать о том, почему в комнате не слишком тепло, Полина не стала. Она услышала шорох за стеной, в сенях, и поняла, что кто-то открывает входную дверь.
«А вдруг опять Платон?» – испуганно подумала она.
Но тут же расслышала голос Изы и, спрыгнув с высокой кровати, на которую легла не раздеваясь, прямо поверх покрывала, выбежала в сени.
– Вот… блядство… какое… – Голос у Изы был такой возмущенный, как будто дверь была живая и нарочно ее дразнила. – Каждый раз… в дверь эту гадскую… ломиться приходится!
Полина уже открыла рот, чтобы крикнуть Изе, что сейчас потянет дверь на себя, а она пусть посильнее толкнет ее снаружи, – да так и осталась стоять с открытым ртом.
– Давайте-ка я, – услышала она. – Не сломается она?
– От тебя, может, и сломается, – засмеялась Иза. – Да все равно толкай, не в окно же лезть!
Чувствуя, что в глазах у нее темнеет – хотя в сенях ведь и так было темно, – Полина бросилась к двери. И тут же дверь распахнулась от сильного удара, и так мгновенно, так сразу и широко распахнулась, что Полина вскрикнула, еле успев от нее отскочить.
Она стояла, прижавшись спиной к стенке сеней, смотрела в открывшийся дверной проем и не могла сделать ни шагу. То есть только первые несколько секунд не могла, а потом все в ней вдруг словно пожаром заполыхало, все перевернулось, взметнулось, подкосилось – она вскрикнула и, кажется, даже не шагнула, а просто упала вперед.
Ей показалось, что она уткнулась в ледяную гору – такая холодная была на нем куртка, и так невозможно было пробиться к нему через этот холод. И это было так ужасно – то, что вот он здесь, в шаге от нее, да уже и не в шаге, а просто весь он здесь, но почему-то окружен твердым, непробиваемым холодом, – это было до того ужасно, что Полина в голос закричала:
– Егорушка-а-а!.. – и расплакалась так, как не плакала даже в детстве.
Она ничего не понимала из того, что сразу начало с ней происходить, ничего! Почему у него такой встревоженный голос, почему он стискивает ее прямо этим холодом, который его все еще окружает, почему спрашивает:
– Полин, ну что ты, я тебя дверью ударил, да? Полиночка, где больно?
И почему она не может его обнять, ах да, не дотягивается до него просто, он ведь высокий, огромный, как гора, она просто до него не дотягивается, а потом он вдруг оказывается вровень с нею, и она наконец видит его лицо – он сидит перед нею на корточках, и обнимает, гладит по щекам огромными ладонями, и целует не в губы, а в нос и в глаза, потому что не находит ее губы в полумраке сеней, и одновременно расстегивает свою куртку – и вот он наконец, не холод его заиндевевшей куртки, а весь он, сам он, и можно наконец прижаться к его груди, в которой сердце бьется так громко, что ей только его сердце и слышно, а больше ничего ей слышать во всем белом свете и не надо!