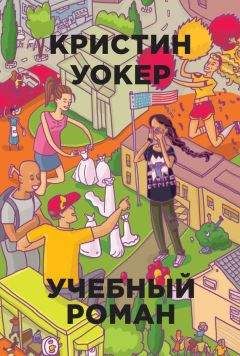Вот блин. Это что, всерьез? Джонни Мерсер выбрал этот прекрасный момент, чтобы объявить мне о своих чувствах? Хуже, наверное, уже и быть не может.
Я просто хотела домой, в кровать, поскорее свернуться клубочком под одеялом. И я была готова на все, чтобы ускорить это событие.
Я подняла руку:
– Джонни, я это все очень ценю, но знаешь что? У меня все в порядке. И вообще… – Я покачала головой, чтобы он уж точно все понял. – Меня это не интересует.
И пошла прочь как можно скорее. Потом даже бросилась бежать. Я хотела смотаться оттуда как можно скорее. От Джонни Мерсера. От этого костра. От черлидеров. От Тодда с Амандой. От Марси с Гейбом. От школы. Шла бы она в жопу. С этим идиотским курсом. И аттестат в жопу. И всю эту жизнь туда же. Я просто хочу домой.
И я бежала по холодной улице.
На следующее утро я валялась до одиннадцати. Глаза слиплись от слез, ужасно болела голова. Полночи я думала о Марси, о том, что она, во-первых, встречалась с Гейбом, а во-вторых, столько месяцев мне врала. И чем больше я об этом размышляла, тем лучше понимала, что она просто предпочла Гейба мне. Полное предательство.
Я с трудом сползла по лестнице и проглотила пару таблеток ибупрофена. Потом налила в чашку кофе и села за стол, сгорбившись над ней. Папа читал книгу, сидя на против.
Через некоторое время хлопнула дверь. Вбежала мама, размахивая газетой.
– Она тут! – прощебетала она.
Я простонала и буркнула в ответ:
– Что и где?
Мама развернула передо мной газету и сказала:
– Сибил Хаттон, президент Ассоциации родителей и учителей, обратилась к какому-то своему знакомому в «Трибьюн», и о нас написали! Смотри, на самой первой странице!
И дело было не только в первой странице. Был еще и заголовок: женщина из пригорода протестует против брачного курса в школе: «АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ И ЕЩЕ 300 ЧЕЛОВЕК С НЕЙ СОГЛАСНЫ». Это не какая-то там крохотная местная газетенка. Не паршивая «Дейли леджер». А сама «Трибьюн». Газета города Чикаго. На передовице – фотография моей мамы и две колонки с описанием, какие усилия она приложила, чтобы разгромить этот курс. Такой поворот событий – это либо круто, потому что, блин, может, у нее все получится, либо ужасно – сами посудите, моя мама на первой странице «Трибьюн». Люди пойдут языками чесать.
– Твою петицию подписало триста человек? – спросила я. – У нас ведь не наберется столько старшеклассников.
Мама взяла газету в руки:
– Я обращалась к родителям всех учеников твоей школы. Сначала была петиция. Потом мы писали письма – это пока дает потрясающий результат. А теперь еще и это. – Она снова уставилась на статью, а потом протянула газету отцу: – Что думаешь, Итан?
Папа закрыл книгу и пробежал статью взглядом. У него на лице появилась идиотская улыбка, как у самой стеснительной девчонки, которую вдруг пригласили на танец. Он наклонился к маме и поцеловал ее:
– Сама Элизабет Кэди Стэнтон гордилась бы тобой.
У мамы округлились глаза. Потом она запрыгала:
– Отличная идея! – Она крепко поцеловала папу в губы и сказала: – Спасибо, дорогой. Надо позвонить Сибил. Пойду наверх.
Я обрадовалась, что она ушла. Если бы мне и дальше пришлось смотреть на их поцелуи взасос, я могла бы серьезно повредиться рассудком.
С родителями мне было плохо, но все равно не так ужасно, как в школе. Там я ходила, опустив голову и стараясь избегать какого-либо контакта с людьми. В классе царил беспорядок. Я садилась одна в уголке, стараясь держаться как можно дальше от Марси и Тодда. А на одном уроке, на математике, мне предстояло столкновение с Джонни. Там, конечно, его будет довольно легко игнорировать. На репетицию я, ясное дело, не пойду. Аманда достаточно четко высказала свое мнение по поводу моего присутствия в команде. К тому же, думаю, я уже достаточно часов отходила, требования курса наверняка выполнены. И так я каждый день ездила в школу и домой. На своем сраном велике. Под ледяным ноябрьским дождем.
Потом пришел четверг, и опять математика. В общем, я ее люблю. Мне нравится ее универсальность. Она превосходит и язык, и политику, и религию. Математические законы непреложны. И меня завораживает то, как мыслят математики. Их готовность увидеть новые возможности в этих строгих законах и спросить: «А что, если?..» И вдруг перед ними раскрывается совершенно новая волшебная система, словно лабиринт. И они старательно ищут какую-то новую истину, лежащую в его центре. По-моему, это какая-то магия.
Но в четверг я сосредоточиться не могла. Пока учитель объяснял функции, я рисовала какую-то ерунду на обложке тетради. Точнее сказать, я решила украсить свое убогое изображение мистера Тамбора огромными сиськами, и тут вдруг мне что-то подсунули под руку. Это была свернутая мячиком записка. На одной грани было написано мое имя. Я обернулась посмотреть, от кого она, но никто не подал виду, и я развернула ее просто так.
Фиона,
Извини за тот вечер. Забудь все, что я тебе сказал. Это неправда. Живи, как будто я этого не говорил. И надеюсь, что вы с Марси помиритесь.
Джонни Мерсер
Даже если забыть о том, что мне впервые с седьмого класса прислали записку, это послание просто повергло меня в шок. Что значит «неправда»? Он, значит, тоже думает, что я бесчувственный сноб? Или погодите – он хочет, чтобы я забыла о его признании в том, что я ему нравлюсь… очень? Я надеялась, что именно это Джонни и хотел сказать своей запиской. Так же лучше, да? Я не хотела ему в таком смысле «нравиться». Но и не хотела, чтобы он считал меня бесчувственным снобом. Но, с другой стороны, он написал забыть все, что он сказал, так что, может быть, имеется в виду и то и другое. То есть он решил, что я все же бесчувственный сноб и не нравлюсь ему. Ух. Мерзкая записка.
Я смяла ее и сунула в рюкзак. Когда прозвенел звонок, я пулей вылетела из класса. От одной мысли о том, что с Джонни сейчас придется разговаривать, в душе поднялись сразу все чувства: и злость, и волнение, и облегчение, и страх – вообще все. Наверное, у меня какой-то жуткий ПМС.
Непонятно почему, я возвращалась мыслями к Джонни всю неделю. Что означала его записка? Что он обо мне все же думает? И почему мне не все равно? В какой-то момент я чуть не сдалась и не позвонила ему. Отчасти потому, что еще хотела спросить, как себя чувствует Мар. Я надеялась, что не слишком хорошо – после того-то как пырнула ножом в спину меня, свою лучшую подругу на протяжении многих лет. Но разве можно об этом Джонни спрашивать? Он же не знал, что я с детства обожаю Гейба.
Или все же знал?
А вдруг Марси ему рассказала? Нет, она бы этого не сделала. Или сделала? Она ведь еще хуже со мной поступила. Могла ли она разболтать и об этом?
От мысли о том, что Джонни Мерсер может знать о моих чувствах к Гейбу, у меня в груди разгорелось пламя. Но почему? Какая мне вообще разница, что обо мне думает Джонни Мерсер? Я не понимала. Мне лишь казалось, что, если Джонни узнает, что я была влюблена в Гейба, я никогда не смогу ему больше в глаза смотреть. Вообще никогда.
Но все это было так абсурдно.
Не иначе как ПМС.
К счастью, следующая неделя была короткой – из-за Дня благодарения. А в среду я сказала маме, что у меня ужасно болит живот, поэтому тоже не пошла в школу. В четверг к нам приехали дядя Томми с Аланом и привезли с собой бабушку. Мы объелись и напились (ну, папа уж точно) и стали слушать его старые пластинки на древнем проигрывателе, который он все никак не хотел убирать из гостиной.
Дома было уютно, пахло индейкой, а на улице, казалось, вот-вот пойдет снег. Папа растянулся на диване и пел: «Об-ла-ди, Об-ла-да», и тут дядя Томми объявил, что им пора домой.
Пока они с Аланом одевались и прощались с моими мамой и папой, бабушка взяла меня за руку и увела в гостиную.
– У меня для тебя есть сюрприз, – прошептала она и извлекла из своей стеганой сумочки маленькую красную кожаную коробочку. Открыв крышку, она протянула коробочку мне: – Хочу отдать это тебе.
Там было два золотых кольца – одно с единственным камушком, а у второго бриллианты шли по всей окружности. Я сразу же их узнала.
– Бабушка, – сказала я, – я не могу их взять. Это же твои обручальные кольца.
– А ты – моя единственная внучка.
Я покачала головой:
– Они же твои. Может, тебе еще захочется их надеть.
– Нет, – ответила она и погладила своей бугристой рукой меня по волосам. А потом по щеке. А потом коснулась ложбинки на собственной шее. – Я больше не замужняя женщина.
– Но вы же с дедушкой не развелись.
Глаза у бабушки налились слезами, она моргнула:
– Нас разлучила смерть.
Я не могла этого понять. Я думала, что даже после того, как дедушка умер, бабушка в сердце остается его женой. Они прожили вместе почти пятьдесят лет. Я полагала, что она не носит этих колец, потому что у нее суставы распухли. Не может же она так просто обесценить столько лет совместной жизни. Или она была с ним несчастлива?