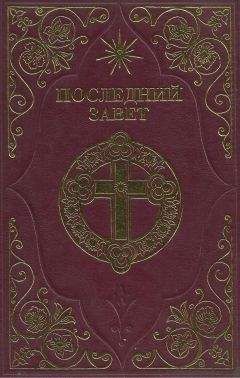– Это невозможно, я останусь с тобою.
Знаком головы она отвечала «нет», не имея сил сказать больше. Наконец она смогла произнести:
– Это моя мать, моя мать. И я хочу быть одна с ней в эту ночь.
Доктор посоветовал:
– Сделайте, как она хочет; сиделка может остаться в соседней комнате.
Священник и Жюльен согласились, подумав о своих постелях. Затем аббат Пико преклонил колена, помолился, поднялся и вышел со словами: «Это была праведница», – сказанными тем же самым тоном, каким он произносил: «Dominus vobiscum».[1]
Тогда виконт обратился к Жанне уже обычным голосом:
– Не хочешь ли закусить?
Жанна не ответила, так как не догадывалась, что вопрос относится к ней.
Он повторил:
– Тебе следовало бы поесть немного, чтобы поддержать себя.
Она сказала растерянно:
– Пошли сейчас же за папой.
И он вышел, чтобы отправить верхового в Руан.
Она оцепенела, погрузившись в горе, словно и ожидала этого последнего часа пребывания наедине с матерью, чтобы отдаться уносящему ее потоку безнадежной скорби.
Тени наполнили комнату, окутывая мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно бродила, отыскивая невидимые предметы и раскладывая их беззвучными движениями сиделки. Затем она зажгла и тихонько поставила две свечи у изголовья постели на ночной столик, покрытый белой салфеткой.
Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Вошел Жюльен; он пообедал и снова обратился к Жанне с вопросом:
– Ты не хочешь ничего поесть?
Жанна движением головы отвечала: «Нет».
Он сел, скорее с покорным, чем с грустным видом, и молчал.
Они сидели втроем, далеко друг от друга, не двигаясь.
Минутами сиделка, засыпая, слегка всхрапывала, но вдруг снова просыпалась.
Жюльен встал наконец и подошел к Жанне:
– Хочешь теперь побыть одна?
В невольном порыве она схватила его за руку:
– О да, оставьте меня.
Он поцеловал ее в лоб, сказав:
– Я буду заходить к тебе время от времени.
Он вышел с вдовою Дантю, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату.
Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна. Прямо в лицо ей пахнуло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом.
Это сладкое ощущение причинило ей боль, уязвило, словно насмешка.
Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную, холодную руку и принялась смотреть в лицо матери.
У нее уже не было отека, как в минуту удара; она, казалось, спала теперь, и спокойнее, чем когда-либо; бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещало тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась.
Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний.
Она припомнила посещения мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, интонации, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло.
Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отупении: «Умерла!», – и весь ужас этого слова вставал перед нею.
Лежащая здесь – мать – мамочка – мама Аделаида – умерла! Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки; она не скажет больше: «Здравствуй, Жанетта». Она умерла!
Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как, у нее не будет матери? Это милое и столь дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которое она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия, этот неистощимый источник любви, мать, это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло! Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения; а затем – ничего, больше ничего, одно лишь воспоминание.
Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния и, сжимая простыни сведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяла:
– О мама, бедная мама, мама!
Затем, чувствуя, что рассудок ей изменяет, как в ту ночь, когда она бежала по снегу, она встала и подошла к окну освежиться, вдохнуть чистого воздуха, который не был бы воздухом этой постели, воздухом умершей.
Скошенные лужайки, деревья, ланда и море вдали лежали в молчаливом покое, заснув под нежным очарованием луны. Эта мирная тишина слегка проникла и в душу Жанны, и она принялась тихо плакать.
Затем она вернулась к кровати и села, снова взяв в свои руки руку мамочки, словно бодрствуя над нею во время болезни.
В комнату влетело огромное насекомое, привлеченное свечами. Оно билось о стены, как мяч, летало по комнате из конца в конец. Жанна, отвлеченная его жужжащим полетом, подняла глаза, но увидела только блуждающую тень на белом потолке.
Вскоре его не стало слышно. Тогда Жанна различила слабое тиканье стенных часов и другой звук, похожий скорее на неуловимый шорох. То были мамочкины часы, продолжавшие идти и забытые в платье, брошенном на стул, в ногах постели. И внезапно смутное сопоставление этой смерти с механизмом, который не останавливался, снова оживило острую боль в сердце Жанны.
Она взглянула на часы. Не было еще и половины одиннадцатого; ее охватил ужас при мысли, что она должна провести здесь всю ночь.
Другие воспоминания приходили ей на память, воспоминания из ее собственной жизни – Розали, Жильберта, – горькие разочарования ее сердца. Все в мире – лишь страдание, горе, несчастье и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где найти немного покоя и радости? В иной жизни, конечно, когда душа освободится от земных испытаний. Душа! Она принялась думать об этой непостижимой тайне, отдавшись вдруг власти поэтических доводов, которые вслед за тем опрокидывались другими, не менее смутными гипотезами. Где же теперь душа ее матери, душа этого неподвижного и ледяного тела? Быть может, очень далеко. Значит, где-нибудь в пространстве? Но где? Развеялась ли она подобно благоуханию засохшего цветка? Исчезла ли, как невидимая птица, выпорхнувшая из клетки?
Призвана ли она к богу? Или рассеялась неведомо где, среди новых творений, соединившись с зернами, готовыми прорасти?
Быть может, она очень близко? Быть может, реет в этой же комнате, вокруг этого безжизненного тела, покинутого ею? И вдруг Жанна почувствовала, как ее коснулось какое-то легкое веяние, точно прикосновение духа. Ее охватил страх, такой сильный, такой бурный страх, что она уже не смела больше ни двигаться, ни дышать, ни повернуться, чтобы взглянуть назад. Сердце ее тревожно билось.
Невидимое насекомое внезапно снова принялось летать и, кружась, ударяться о стены. Она задрожала с головы до ног, но, узнав жужжание крылатого насекомого, успокоилась, встала и обернулась. Ее глаза упали на секретер с головами сфинкса, где хранились «реликвии».
Нежная и странная мысль пришла ей в голову: прочесть в эту ночь последнего бдения – как священную книгу – старые письма, дорогие покойной. Ей показалось, что она совершит священный, чуткий и поистине дочерний долг и что это понравится мамочке в ином мире.
То была старая дедушкина и бабушкина переписка, которую Жанна никогда не читала. Ей хотелось протянуть им руки над телом их дочери, уйти к ним в эту печальную ночь, словно они так же страдают, завязать таинственную цепь любви между ними, умершими уже давно, тою, которая только что перестала существовать, и собою, еще оставшейся на земле.
Она встала, откинула крышку секретера и взяла из нижнего ящичка десяток маленьких свертков пожелтевшей бумаги, перевязанных в порядке и размещенных друг возле друга.
С каким-то особым смыслом она положила все их на постель, под руки баронессы, и принялась за чтение.
Это были старые послания, которые находишь в старинных фамильных секретерах, послания, от которых веет минувшим веком.
Первое письмо начиналось словами: «Моя дорогая». Второе – «Моя прелестная дочурка»; затем следовали обращения: «Дорогая малютка», «Моя крошка», «Моя обожаемая дочка», затем – «Мое дорогое дитя», «Дорогая Аделаида», «Дорогая дочь», – смотря по тому, были ли они адресованы к ребенку, к молодой девушке или, позже, к молодой женщине.
И все это было полно страстных и наивных нежностей, множества интимных мелочей, тех больших и простых домашних событий, которые кажутся столь незначительными посторонним людям: «У отца простуда; горничная Гортензия обожгла себе палец; кот Мышелов околел; срубили ель по правую сторону забора; мать потеряла свой молитвенник, возвращаясь из церкви, и думает, что его у нее украли».
Говорилось в них и о людях, которых Жанна не знала, но имена их она слышала в детстве, как ей смутно вспоминалось теперь.