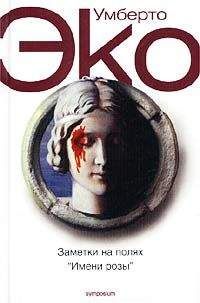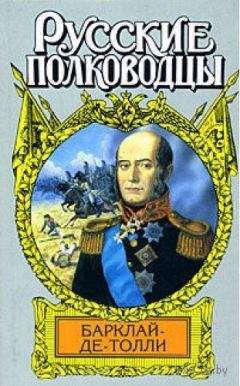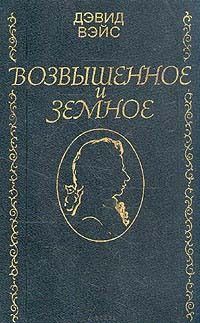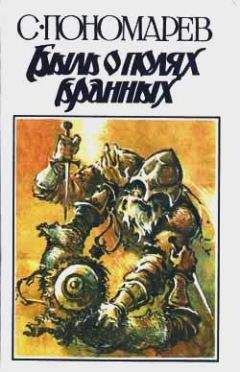Одни романы дышат как газели, другие — как киты или слоны.
Умберто Эко, «Заметки на полях „Имени розы“»
И этот роман я отношу к числу других. Если, конечно, не отказываюсь понимать, что он мертворождённый.
Впрочем, следовало бы начать с фразы «это не роман» или «это не книга», но вряд ли станет лучше, если вместо сих громких слов использовать что-то вроде «произведения» или набившего оскомину «текста», поэтому переходим к следующей установке (и будем помнить, что это пятиминутка заламывания рук).
Итак. Это не исторический роман.
И даже не «исторический роман с добавлением магии». Это игра в исторический период, выросшая из нескольких не самых умных мыслей и наблюдений, распаливших желание что-то создать. Полешко «хочу стимпанк/протодизельпанк про Францию, а то жанр больно англосфероцентричный», полешко «изволю роман о городской архитектуре», полешко «желаю нечто о предчувствии несчастливой звезды[1] мифоборческого и мифопоборнического века, в котором мы родились», ещё одно, ещё одно… — естественно, (не) получилось ни то, ни другое, ни третье, ни энное — сложить их домиком, подложить бумагу для растопки, чиркнуть спичкой «ты сможешь» и наблюдать, что получится, надеясь, что зачинающееся пламя не угаснет, поскольку начинающий пироманьяк не уследил за подачей кислорода.
Книга оперирует деталями, свойственными рубежу XIX–XX веков, однако сомневаюсь, что передаёт дух эпохи с точностью и глубиной, позволяющими ей претендовать на звание исторической. Некую атмосферу художественными средствами я попытался нагнать и поддерживать, но обращаю внимание, что именно художественными, а не историческими (и всё же книга лжёт меньше, чем кажется).
Вы встретите знакомые имена и названия, однако предлагаю воспринимать их лишь как образы, в той или иной мере навеянные реально существовавшими людьми и объектами, но никогда полностью их не копирующие, а в ряде случаев и вовсе уподобляющиеся отголоскам. За неизбежно присутствующую спекуляцию я и так себя корю.
При этом созданию романа, стоит признаться, сопутствовала некоторая замороченность по поводу астрономии, инфраструктуры, хронологии и метеорологии, во многом определившая «анатомию» повествования. К слову, это было перечисление в порядке логарифмического понижения точности.
Хронология могла бы передвинуться и на второе место, если бы не пришлось, к примеру, события пятой главы на много дней приблизить к событиям четвёртой, иначе роман грозил превращением в барочный (хоть роман тему барокко и задевает по моей труднообъяснимой прихоти), а до этой формы я пока что не дорос и не уверен, что текстура получилась бы по-рубенсовски мясной — скорее, просто рыхлой. При этом, признаю, роман и без того можно обвинить в эвфуистичности, однако за этим — простите за признание, но не сочтите за оправдание — стоит игра-эксперимент.
И также хронология не заняла бы первую позицию из-за вольностей в плане истории техники. Прошу вас учесть, что анахронизмы не порождены незнанием; встречаются как забегающие вперёд, так и канувшие в Лету к моменту завязки истории, а часть того, что анахронизмом показаться может, таковым на деле не является (и, разумеется, присутствует то, что существовать никак не могло или же никогда реализовано не было). Эта вывернутость, в ряде мест подчёркнутая использованием неологизмов и заимствований, также свидетельствует, что к истории книга отношения имеет весьма опосредованное.
Более того, если обращаться к определению хронологии как последовательности событий во времени, то вы, вероятно, обратите внимание, сколь причудливо себя начинается вести это самое время в третьей части книги, сколь вместительным оно становится. Впрочем, вполне допускаю, что-то происходит не с ним, а с пространством или самими персонажами — сродни эффектам скосиглаза из «Пены дней». Так или иначе, подобное искажение не позволяет говорить об объективности и корректности хронологии.
К идее же определить роман как произведение жанра «альтернативной истории» отношусь с опасением из-за, позвольте так выразиться, горизонтального переноса и предубеждения, накопленного к упомянутому роду литературы — в особенности за все последние годы его существования.
Далее. Это не философский роман.
Вы встретите термины, подозрительно похожие на те, что составляют дискурс философии постструктурализма, но мифология романа, в свою очередь, выстраивающаяся на сплетении нескольких различных мифологий, вкладывает в них иные смыслы и взаимосвязи. Впрочем, не могу и опровергнуть, будто это не экивок на тему, поднятую Брикмоном и Сокалом в «Интеллектуальных уловках»: если сами философы заимствуют терминологию из одной области наук и модифицируют её значение для собственной, то почему бы не провернуть это над ними самими? Но не подумайте, что я нарочно желал устроить постструктуралистам какую-то пакость, а в фундамент книги заложена идея тонкосаркастичного подрыва пласта философской мысли (ну, и не будем вспоминать, что до этого пласта «добурились» как раз в городе, где действие романа и происходит). Вовсе нет, роман не о том, да и куда мне до подобных игрищ.
Если же под «философским романом» подразумевать литературоведческое определение его как книги с повышенным или хотя бы заметным содержанием философских же концепций, и эти же самые концепции отрабатывающей, то мне, пожалуй, достаёт самокритичности не утверждать, будто это требование соблюдается.
Совершенно нескромным выглядело бы и заверение, что роман наследует символизму.
На остальных видах, если кто таковые помнит, и дальнейших попытках классификации останавливаться не будем; вы вольны дать собственное определение, не говоря уже о том, чтобы и со мной не согласиться.
Перейдём к основной проблеме книги (кроме её автора, но и это тоже).
Дополнительную сложность в чтение (помимо языка, темпа, композиции[2], необходимости каждую третью страницу лезть в «Википедию» или поисковик — в общем, всё печально, закрывайте и не читайте) вносит то, что события имеют место на протяжении Всемирной выставки 1900 года.
Следы подстройки города под потребности Выставок — и этой, и предшествовавших ей — до сих пор заметны в планировке седьмого и восьмого округов как негативное пространство, однако от самих экспозиций мало что осталось в вещественном смысле: по большому-то счёту лишь Эйфелева башня, Большой и Малый дворцы, мост Александра III, «Улей», а также некоторые другие объекты, куда менее знаковые и узнаваемые, и редкая мелочь, если не упрятанная в музейный подвал, то раскупленная и растасканная, сменившая назначение.
Пожалуй, размышления об этом негативном пространстве достойны самостоятельного эссе, но пару строк уделю здесь, поскольку это представляется концептуально важным даже не для самой книги, но для чего-то более высокого (глубокого?) и протяжённого во времени. Проявление присутствия даже не пустоты, а исчезновения, удаления, прекращения, раздирания, трещины, разлома — разрыва — оказалось весьма симптоматичным.
В той или иной мере (секс-)символом и маркером определённой эпохи (разумеется, в большей степени для литературы и визуального искусства, причём уже наших дней) стал дирижабль, и её же концом обозначают катастрофу «Гинденбурга» в мае 1937 года. Однако стоит понять, что дирижабль был одним из свойственных эпохе конструктов — также утраченных к тому году. Для меня конец эпохи — уход с арены трёх таких материально-символических конструктов. Дирижабли утратили «гражданское» доверие, но всё же сохранились. Безвозвратной же оказалась гибель в последний раз сгоревшего тридцатого ноября 1936 года и разобранного на металлолом Хрустального дворца. Участь сноса постигла к 1937 году и дворец Трокадеро, эклектичный, сплетавший в себе восточное и западное. Однако на удобренной его прахом почве возник новый.
Дворец Шайо, построенный ко Всемирной выставке 1937 года, представляет собой инверсию предшественника: могучие крылья-корпуса и — отсутствие соединяющего их центра. Нет, технически этот центр есть, но он утоплен в землю, виден со стороны фонтана (то есть со стороны набережной) и никоим образом не способен доминировать в архитектурной совокупности комплекса. Проявления удвоения и предпосылки к его усилению были и у дворца Трокадеро: две неомавританского стиля башни выше основного купола, — но в архитектуре дворца Шайо видится что-то тревожное. Что-то, что должно было транслировать идею уравновешенности, равенства, встречи и диалога, но, по сути, лишь отрефлексировало, если не умножило и оттенило накапливавшийся и начавший проявляться во второй половине тридцатых годов ужас, в том числе ужас перед модернистскими режимами: однозначными, плоскими, играющими во что-то имперское, переходящими, говоря языком В. Паперного, в стадию Культуры-2.