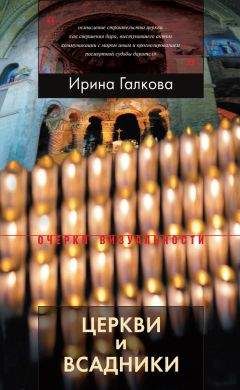При этом подлинная система отношений ренессансных художников и заказчиков авторами XVIII–XIX вв. часто переосмысливалась в духе своего времени, в сторону повышения творческой самостоятельности художника и умаления роли заказчика. Одной из важнейших составляющих культуры романтизма XVIII–XIX вв. была апология творческой индивидуальности и свободы творчества; в связи с этим роль заказчика в сочинениях того периода осмысливалась как маргинальная, вспомогательная или даже негативная. Один из основоположников романтизма В. – Г. Вакенродер в фантазийной истории из неопределенного прошлого предельно возвышает трагический образ художника, а в уста заказчика вкладывает следующие почтительные слова: «Вы мой благодетель, а не я ваш <…> Я даю то, что вы могли бы получить от всякого, вы же дарите мне самые драгоценные сокровища своего сердца»[9]. Такое соотношение задним числом проецировалось и на отношения авторов и заказчиков в прошлом, в том числе средневековом.
Также стоит отметить, что разговор о заказчике долгое время обусловливала определяющая для искусствознания парадигма, а именно изучение сменяющих друг друга стилей и развития формы. Влияние заказчика на творчество художника понималось главным образом как эстетический запрос, выражавшийся во вкусовых предпочтениях. В таком ключе рассматривалось и понимаемое в более отстраненной перспективе влияние социальной подоплеки на развитие искусства такими исследователями, как Дж. Эванс, Ф. Антал, Ж. Дюби, о чьих работах речь пойдет ниже.
На ранних этапах исследования средневекового зодчества, при недостаточной освоенности базы письменных источников все эти факторы (ренессансная модель, романтическая парадигма, стиль как определяющая категория искусства) способствовали складыванию той интерпретационной системы, которая затем долгое время задавала основные векторы разговора о средневековом заказчике, хотя была не очень хорошо приспособлена для того, чтобы уловить и описать специфически средневековый феномен.
Одна из главных черт этой системы – проблематизация отношений автора и заказчика, понимаемых как столкновение свободы самовыражения и внешнего диктата. Она восходит главным образом к ренессансной модели, или, точнее говоря, к ее более поздней (прежде всего романтической) интерпретации. Подобно этому и средневековая ситуация осмысливалась как противостояние творческой воли художника установкам заказчика, и вопрос, адресованный самой фигуре заказчика, долгое время состоял прежде всего в том, как и насколько сильно он ограничивал деятельность мастера.
В XVIII–XIX вв. романтическая апология творчества сочеталась с романтическим же интересом к готической архитектуре, которая необычностью форм, вызывавших эмоциональное представление об их произвольности, естественности, разительно контрастировала с рациональным лаконизмом классического ордера. Все это способствовало появлению мифа о свободе готического мастера. Соображения насчет заказа и заказчиков произведений искусства у романтиков носили, как правило, полупрезрительный характер и связывались скорее с собственной эпохой, чем с идеализированным ими Средневековьем: Гете в фантазийном эссе о мастере Эрвине, строителе Страсбургского собора, противопоставлял его свободный гений современной ситуации, когда «причуды художника угождают сумасбродству богача»[10]. В начавшемся тогда же научном изучении средневековых древностей значительное внимание уделялось информации о готических мастерах, при этом определяющим направлением таких работ был поиск доказательств их свободы (как личной, так и творческой) и независимости от догматических установок церкви[11]. Большое значение имели почерпнутые в архивах сведения о городских гильдиях строителей и художников. Готический мастер считался выразителем духа и чаяний свободного бюргерства, к которому принадлежал и сам. При этом самостоятельная рефлексия как о церкви, так и о бюргерстве в роли заказчика на начальном этапе, как правило, отсутствовала.
Интерес к романским постройкам появился несколько позже и был не столь эмоционально насыщенным. Романика, в отличие от готики, считалась монашеским искусством; ее расцвет связывался с подъемом монастырей, а строгость и тяжеловесность романской архитектуры – с суровостью нравов реформированного монашества. По словам Виктора Гюго, от романских церквей «веет папой Григорием VII»[12]. Таким образом, если готические церкви считались итогом самовыражения мастера-архитектора, а сама готика – «светским» искусством, отвечающим вкусам и запросам свободных горожан, то романские церкви слыли произведением церковного заказчика, а романика в целом – искусством монастырским, подчиненным доктрине и уставу в лице настоятелей[13].
Эта генерализация, соотносящая два основных стиля средневековой церковной архитектуры с преобладающим типом заказа, была не столько следствием изучения конкретных случаев создания тех или иных церквей, сколько неким обобщенным внешним взглядом на средневековую культуру, сформированным в большей степени литераторами-романтиками, чем исследователями. Однако данная парадигма стала определяющей и для общих исследовательских установок. Романский и готический стили в архитектуре были соотнесены с двумя наиболее значительными социальными явлениями Средневековья – григорианской реформой церкви и развитием средневековых городов. В соответствии с этим романика считалась стилем бенедиктинских монастырей, готика – искусством соборов. И хотя при более пристальном взгляде это отождествление во многом обнаруживало свою несостоятельность[14], оно служило в целом действенной парадигмой соотнесения социальной истории Средневековья с историей искусства. Вообще параллельное исследование развития социума с развитием искусства становится с начала XX в. той схемой, в рамках которой обсуждаются вопросы, ближе всего подходящие к проблематике заказа. Панорамный обзор средневекового искусства в такой перспективе был представлен в книге Дж. Эванса, имевшей подзаголовок «Исследование патронажа» (хотя в строгом смысле о патронаже художников речь в ней не шла)[15]. Основные направления архитектуры и прочих искусств рассматривались автором в перспективе нужд и запросов, исходивших от определенного социального круга. Подобный подход применялся и исследователями более поздних эпох[16]. Своеобразный итог этой традиции подвел Ж. Дюби в своем обзорном эссе (французское издание которого представляло собой иллюстрированный альбом) «Время соборов», где три эпохи Средневековья осмысливались в комплексе присущих им социальных характеристик и соответствовавших им магистральных линий развития культуры и искусства: «Монастырь. 980–1130»; «Собор. 1130–1280»; «Дворец. 1280–1420»[17].
Парадигма соотнесения определенных стилистических черт с заказом той или иной социальной категории была углублена и конкретизирована в исследованиях, посвященных более частному взгляду на вопрос, – например, специфике искусства, созданного в рамках одного из монашеских орденов. Такая конкретизация была проделана уже упоминавшимся Дж. Эвансом[18]; в отношении клюнийской архитектуры необходимо также отметить работы К. Конанта[19]; в целом продолжающая эту линию книга Ж. Дюби о цистерцианском искусстве[20] представляет собой культорологическое эссе, где основные принципы организации архитектуры и книжной графики предстают частью духовно-эстетической направленности ордена Сито. Однако обобщающая перспектива, присущая такого рода исследованиям, не предполагала специального внимания к фигуре заказчика и анализа его стратегии.
Другая линия исследований средневекового заказа оформилась в начале XX в. и была связана с появлением нового метода в искусствознании – иконографического анализа. В рамках этой парадигмы первоочередное внимание уделялось не форме произведения, а его смыслу. Смысл церковного декора восходил к Библии и богословским текстам, причем в изображениях находили воплощение довольно сложные теологические категории. Следовательно, смысловая основа произведения не могла быть выстроена без участия ученого клирика или монаха. Так начала переосмысливаться роль заказчика-прелата: теперь его вкладом считалась не только инициатива по созданию произведения и выражение общих предпочтений по его внешнему виду, но и продумывание смысловой канвы произведения, то есть по сути соучастие в творческом процессе.
Не в меньшей степени этот новый этап можно было бы связать со вспышкой интереса к конкретной личности – аббату Сугерию – и его деятельности по перестройке главной церкви аббатства Сен-Дени, настоятелем которого он являлся. Интерес в немалой степени был обусловлен самой личностью аббата – яркой, деятельной, оставившей по себе множество творений, одно из которых – подробное описание своих деяний на пользу монастыря, где среди прочего большой раздел посвящен перестройке аббатского храма. Немаловажным обстоятельством было и то, что сама церковь и некоторые предметы утвари, упоминаемые аббатом, сохранились и были доступны для изучения. Исследование этого конкретного казуса поставило вопрос о заказчике во главу угла, тогда как прежде он был скорее маргинальным. К нему обратились два ведущих исследователя, чьи имена связывают с закладыванием основ иконографического метода: Эмиль Маль и Эрвин Панофски.