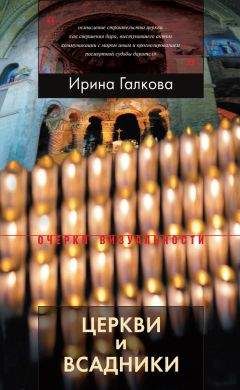Очевидно, что речь в документе идет не только о захвате собственно монастырских построек, но и о той власти, которую они собой символизировали – захват монастыря означал ее смену во всем городе. Неслучайным кажется и отдельное упоминание колоколен: их захват представляет несомненную важность наряду с захватом самого здания церкви. В заключительной формуле, устанавливающей правосудие, вновь оговаривается, что светский аббат впредь не должен притязать ни на церковь монастыря, ни на его колокольни[542].
Переход частных церквей под контроль церковных институций являлся одним из главных положений церковной реформы, и возможность реставрации власти светского сеньора с ее внедрением постепенно сводилась на нет. Именно в этот период запрет на фортификацию церквей закрепляется в церковном законодательстве; в разрешениях на строительство церквей конца XI – начала XII в., выдаваемых епископами и аббатами, становятся особенно часты оговорки о том, что возводимое здание не должно иметь военных укреплений и колокольни[543]. Между тем светские заказчики по инерции продолжали желать сооружения этих элементов.
Намерение графа Ги-Жоффруа выстроить входные башни в Монтьернеф наглядно это демонстрирует – он действует так же, как его предшественники, строившие частные монастыри. Однако Монтьернеф уже в процессе строительства принадлежал Клюни, и тот факт, что после смерти графа план постройки оказался изменен, думается, свидетельствует об этой изменившейся ситуации.
Вышеупомянутый конфликт светского и церковного аббатов Муассака, по всей видимости, был связан не только с военным захватом башни и церкви, но и с намерением покровителя-мирянина перестроить башню, укрепив ее и оснастив фортификационными элементами. Из эпитетов, применяемых в отношении колоколен (facta vel facienda), можно заключить, что в одной из них на момент конфликта велись строительные работы. Массивная западная стена сохранившейся входной башни-колокольни Муассака и пояс оборонительных укреплений на ее втором ярусе датируются первой третью XII в. (илл. 5.1), то есть временем, соотносимым с моментом распри[544]. Вероятно, своеволие светского аббата затронуло и архитектурный облик монастыря – вряд ли эти детали можно приписывать инициативе прелатов; их вмешательство было направлено скорее на то, чтобы лишить эти новшества их функциональности. Знаменитый портал Муассака в его окончательном виде был создан примерно в это же время, причем нетрудно заметить, что большая открытая ниша, в которой расположен скульптурный ансамбль (илл. 5.2), врезанная в защитную стену с южной стороны, значительно ослабляет фортификационные качества башни и фактически обессмысливает ее военные укрепления. Вероятно, этот проект был реализован после того, как аббат Рожер одержал победу в споре со своим светским оппонентом, и явился воплощением его понимания роли главной монастырской церкви. Скульптурный портрет Рожера (илл. 5.4), венчающий ансамбль портала, – свидетельство его триумфа в отношении как управления монастырем, так и авторства в перестройке его главной церкви.
Сама башня, как видим, в случае Муассака была оставлена. Но, как следует из череды других случаев, колокольня действительно нередко подлежала упразднению на стадии замысла или разрушалась. Конечно, это могло быть сопряжено не только с желанием устранить объект возможных притязаний светского патрона, но и с ветхостью конструкции, и с ее неудобством. Так, к примеру, аргументирует свое вмешательство аббат Сугерий, который в процессе реконструкции Сен-Дени тоже уничтожил аван-неф, выстроенный при Карле Великом[545].
Стоит отметить, что во всех упомянутых случаях упразднение башни (как проектируемой или возможной, так и уже существующей) или ее трансформация происходили по воле деятелей церкви, в согласии или в конфликте с пожеланиями мирян. Такое вмешательство в авторские интенции мирян-заказчиков можно назвать знамением времени и отметить как одну из конкретных форм ограничения их свободы самовыражения и роста значимости организующей роли заказчиков-прелатов.
Упразднение башни в Меле должно было символизировать ограничение прав бывших сеньоров в отношении церкви: перейдя в подчинение монастыря и сделавшись его приоратом, она становилась для них лишь объектом защиты и благотворительности, утратив значение собственности. Роль некрополя, значимого для сохранения родовой памяти, она при этом не теряла. Однако, несмотря на сохранявшуюся связь, такие церкви управлялись монахами и полномочия мирянина-покровителя в их отношении были ограниченными[546].
Если мы можем с большой вероятностью предполагать, что перестройка западной части мельской церкви была осуществлена по инициативе светских сеньоров, то тем не менее есть резон говорить и о том, что оно происходило при бдительном контроле монастыря Сен-Жан: упразднение башни, скорее всего, происходило по согласованию с монахами и могло быть одним из основных условий, на которых светская инициатива была санкционирована церковью-патроном, как в ряде упомянутых случаев. При этом в остальном свобода самовыражения мирянина могла сохраняться: подобный пример мы находим в грамоте, оговаривающей условия перестройки собора Сен-Лазар в Отене герцогом Бургундии Гуго III, где говорится, что он вправе сделать те изменения в здании церкви, какие ему захочется, исключая то, что не относится к церковной архитектуре, то есть возведение башен и военных укреплений[547].
В случае Ольнэ башня у вновь возведенного здания также отсутствует; была ли она в предыдущей конструкции – трудно сказать, так как ее следов совершенно не сохранилось. Башня же, которая находилась поблизости от церкви, по всей видимости, никогда не составляла с ней единого ансамбля (по крайней мере никаких четких указаний на это нет – она ни разу не названа колокольней и в документах о передаче церкви не фигурирует).
Таким образом, суммируя эти наши наблюдения и сделанные ранее умозаключения, мы предполагаем, что церкви Меля и Ольнэ были перестроены мирянами, их бывшими собственниками, принадлежавшими к одному кругу, связанному соседскими и родственными отношениями; что перестройка была обусловлена долговременной связью истории семей с означенными церквами, и эта связь не прекратилась с передачей их в церковную собственность; что их инициатива в отношении визуального воплощения храмов была в целом самостоятельной, однако реализовалась в контакте и под контролем прелатов и воплощала по-новому осмысленное отношение светских патронов к церкви.
Форма таких церквей, как Мель и Ольнэ, как уже говорилось, сравнивается с ларцами и реликвариями. Еще их можно сравнить с саркофагами – продолговатый неф, украшенный регулярной разделкой рельефами, лишенный каких-либо значительных доминант, как будто напоминает о своей главной функции – служить местом последнего упокоения. Если постройки XI в. своей массивностью напоминают светские замки, то церкви Меля и Ольнэ (как и целый ряд других церквей региона этого же времени) отличает нарочитая открытость и незащищенность, как будто указывающая на их непричастность к бурям и суете этого мира.
8. Всадники на фасадах: Репрезентация заказчика?
В скульптурной программе церквей Ольнэ и Меля совершенно особое место занимала фигура всадника, расположенная на фасаде. Всадник восседал в спокойной позе, а его конь передним копытом попирал скорченную человеческую фигурку. К сожалению, оба изображения на настоящий момент утрачены. Некогда всадники были выполнены в высоком рельефе, местами переходившем в круглую скульптуру, и значительно превосходили своими размерами все другие элементы декора. В обоих случаях рельеф имел наилучший обзор с дороги, проходившей рядом с церковью. Монументальное скульптурное изображение всадника, расположенное на фасаде, как уже говорилось, встречается и на других церквах региона, подобных храмам Меля и Ольнэ. Анализ этого мотива может стать существенным дополнением к осмыслению архитектурной традиции поздней романики в Пуату и ее социальной подоплеки. Более подробное рассмотрение на этом фоне рельефов Меля и Ольнэ и определение их возможной функциональной значимости, как кажется, должны многое прояснить в ситуации создания храмов и существенно дополнить высказанные выше соображения насчет их заказчиков. В нижеследующей главе я постараюсь определить функциональную значимость скульптур Меля и Ольнэ на фоне анализа регионального мотива в целом.
Для начала я представлю все, что нам известно о случаях использования этого мотива в Пуату и Сентонже.
Фигура всадника на фасаде, очень распространенная в регионе, как уже говорилось, стала отличительной чертой многих церковных зданий XII в. в Пуату, а также отчасти в соседних Сентонже и Ангумуа. Все это храмы второго романского периода, так называемые церкви-ларцы. Характерный для них фасад-экран традиционно украшался глухой аркадой в два яруса. Фигура, как правило, располагалась в одной из боковых арок второго яруса (обычно левой), занимая все ее пространство. По сохранившимся изображениям и их фрагментам, а также по зарисовкам XVIII–XIX вв. можно определить основные особенности этого мотива, повторяющиеся в большинстве изображений. Посадка всадника обычно прямая и спокойная, он не вооружен; под передним копытом коня находится скорченная фигурка. Голову всадника часто венчает корона, иногда в поднятой руке он держит сокола. В ряде случаев этому изображению отвечает парное, расположенное в такой же глухой арке по другую сторону от входа. Среди таких парных рельефов – сцена борьбы со львом, женская фигура, еще один всадник. Всего можно с достаточной уверенностью назвать по меньшей мере 14 церквей, где этот иконографический мотив присутствовал (или до сих пор присутствует) в декоре фасада: кроме интересующих нас храмов Ольнэ и Меля это Сен-Николя в Сиврэ, Сент-Эри в Мате, Нотр-Дам в Сенте, Нотр-Дам ля Гранд в Пуатье, Сен-Пьер в Партенэ-ле-Вье, Нотр-Дам в Партенэ, Сен-Пьер в Эрво, Сен-Жак в Обетере, Сен-Пьер в Шатонефе, Нотр-Дам в Сюржере, Сент-Элали в Бене, Сен-Мартен в Понсе[548]. Все церкви построены в XII в. Всадники чаще всего выполнены в высоком рельефе, местами переходящем в круглую скульптуру. По этой причине они оказались самым уязвимым элементом декора, и множество их было разрушено в эпоху религиозных войн и в годы Революции. В ряде случаев всадники полностью уничтожены, и об их прежнем существовании можно судить по письменным свидетельствам (в Сент-Эри в Мате, Нотр-Дам в Сенте, Сен-Мартен в Понсе) или по сохранившимся зарисовкам (это интересующие нас скульптуры Ольнэ и Меля); в других остались лишь фрагменты скульптур (Сен-Николя в Сиврэ, Нотр-Дам в Партенэ, Сен-Пьер в Эрво, Сен-Жак в Обетере). И только в нескольких случаях (Сен-Пьер в Партенэ-ле-Вье, Сен-Пьер в Шатонефе, Нотр-Дам в Сюржере) эти изображения дошли до нас в достаточно хорошем состоянии.