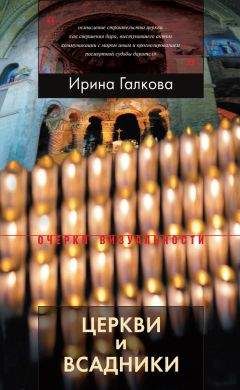Захоронения в аркосолиях, находившиеся поблизости от входа, несомненно, обращали на себя внимание заходивших в храм паломников; в еще большей мере, видимо, привлекала их взоры фигура всадника. В обоих случаях изображение вынесено на тот фасад, который обращен к дороге. В случае Ольнэ непосредственно рядом с входом находится одно из упомянутых захоронений. В Меле следы аркосолиев также расположены вблизи портала с всадником. Монументальный размер скульптуры, которая в традициях своего времени была еще и полихромной, должно быть, заставлял на нее оглядываться и просто проходивших мимо путников. Находившиеся под ней погребения были очень заметны; не исключено, что в свое время их также сопровождали эпитафии, призывавшие помолиться за души усопших, как и в захоронении Константина в Сент-Илер в Пуатье. Люди, нашедшие упокоение в этой церкви, могли не беспокоиться о своем посмертном забвении: их могилы были столь же часто посещаемы, как и гробницы известных святых. В отношении этих двух церквей нам ничего не известно об установленном литургическом ритуале поминовения похороненных в ней членов того или иного знатного рода. Очень возможно, что он существовал; однако, кроме этого, само местоположение храма и организация захоронений в нем уже задавали канву для непрекращающегося поминовения тех, кто в нем похоронен, все новыми и новыми пришельцами.
Местоположение церкви на паломническом пути делало ее публичным местом, посещаемым путешественниками-христианами, стекавшимися со всей Европы. Такая практика была исключительно важна для церкви-усыпальницы аристократического рода. Только будучи представленной широкой аудитории и признанной в обществе, семейная память обретала объективную ценность и обеспечивала представителям рода их аристократический статус. Поэтому оживленность участка, на котором располагались церкви, по-видимому, не только не мешала им стать желанным местом последнего упокоения, но и значительно повышала их престиж как семейных некрополей. В случае Меля, думается, можно говорить об органичном симбиозе целей, преследуемых церковными и светскими заказчиками: с одной стороны, церковь служила опорным пунктом конгрегации, организуя и направляя движение паломников, с другой – ее функция паломнического этапа чрезвычайно удачно согласовалась с существовавшим, судя по всему, стремлением ее светских покровителей увековечить память о себе. Этому функциональному симбиозу отвечает на предметном уровне сочетание двух разновременных частей постройки, слитых в единый архитектурный ансамбль.
Если так, то Ольнэ и Мель, конечно, не уникальные в своем роде явления, а частный случай социального и художественного феномена, охватившего весь регион. По всей видимости, тип «церкви-ларца» оказался оптимальным для воплощения родовых амбиций представителями второго эшелона аристократии Пуату. Впрочем, стоит оговориться, что в фамильных церквах Рамнульфидов и Плантагенетов, Монтьернеф и Фонтевро, также запечатлелись черты этой местной традиции: по меньшей мере обе они имели фасад-экран. Если же говорить о рядовых пуатевинских и сентонжских «церквах-ларцах», особенно о тех, которые имели на фасадах изображение всадника, то их история довольно часто и очевидным образом связана с обитателями того или иного замка – таковы, кроме Меля и Ольнэ, Сюржер, Понс, Партенэ. Три из церквей с всадниками связаны с представителями сильнейших линьяжей Пуату – Аршевеками, сеньорами Партенэ (церкви Нотр-Дам в Партенэ и Сен-Пьер в Партенэ-ле-Вье)[620] и виконтами Туара (Сен-Пьер в Эрво)[621]. Древние кладбища вокруг церквей и их позиция extra muros отмечается для многих пуатевинских церквей, перестроенных в XII в. Подобную ситуацию можно отметить также в отношении Сен-Пьер в Партенэ-ле-Вье и Сен-Мартен в Понсе. При этом в XII в. присутствие захоронений внутри стен замка уже не смущало его обитателей, и вновь основанные церкви, предполагавшие такую функцию, могли находиться внутри (как церковь Нотр-Дам в Партенэ и Нотр-Дам в Сюржере). Кроме того, можно отметить, что в таком ключе могли быть осмыслены и некоторые аббатские храмы (Нотр-Дам в Сенте, Сен-Пьер в Эрво), и коллегии (Сен-Жак в Обетере, Нотр-Дам ля Гранд в Пуатье).
Всадники и память о крестовых походах
Выше уже говорилось, что скульптура всадника и некоторые другие мотивы изображений на фасадах аквитанских церквей могут быть соотнесены с родовыми знаками местных аристократов, и, следовательно, их роль в фиксации родовой памяти была исключительно важна. При этом относительно всадника следует сделать еще одну важную ремарку. В XII в. рыцарь на коне сделался изображением, наиболее адекватно отражавшим суть формировавшегося сословия: интересующий нас период – время первых крестовых походов, которые во многом сформировали внешние атрибуты аристократического образа. Во время строительства интересующих нас храмов походы еще были не оформившейся традицией, а насущной и непосредственно переживаемой реальностью. Тем не менее осмысление значимости события и своего участия в нем было, надо полагать, достаточным, чтобы у крестоносцев возникла необходимость запечатления памяти об этом для своих потомков[622]. Образ христианского рыцаря – конного воина, мученика, защитника интересов церкви – в это время обретал все большую популярность в церковном искусстве[623]. Появление родового знака в виде рыцаря на церквах вряд ли никак не связано с этим явлением.
Представители всех ведущих линьяжей Пуату – сеньоры Лузиньяна, Партенэ, Молеона, Туара, Шательро – участвовали в крестоносных экспедициях на протяжении нескольких поколений. Особенно преуспели в своих достижениях на Востоке Лузиньяны: как известно, Ги де Лузиньян некоторое время был королем Иерусалимского королевства, а затем он и несколько его потомков правили Кипром. Многие представители пуатевинской знати приняли участие в Первом крестовом походе – в масштабной кампании европейской знати, начавшейся в 1096 г. и закончившейся взятием Иерусалима, или в походе Гийома Трубадура 1100 г., получившего нелестную оценку хронистов как по своей запоздалой реакции на призыв церкви, так и по результатам организованной им экспедиции[624]. В обоих походах участвовал Эрберт II, виконт Туара[625]. Один из представителей линьяжа Ольнэ – Каделон IV – также был одним из воинов первой крестоносной экспедиции[626]. Хронисты Первого крестового похода упоминают среди участников еще некоего Пьера из Дампьера[627], а также Рено и Пьера из замка Понс в Сентонже[628] (их потомки Режинальд и Эли примут участие в третьем походе[629]). Об участии сеньоров Меля в походах ничего не известно; нет информации и относительно Рабиолей, если только упомянутый Пьер из Дампьера не происходил из этой семьи.
Таким образом, представители по меньшей мере нескольких семей, связанных с историей «церквей-ларцов» с всадниками на фасадах, приняли участие в этих военных кампаниях, во-первых, обеспечив себе славу защитников церкви или даже мучеников за христианскую веру (как Эрберт из Туара, погибший в походе 1100 г.), во-вторых, заложив краеугольный камень в истории своего линьяжа, где на протяжении нескольких последующих столетий будут почитаться предки-крестоносцы, в-третьих, наилучшим образом оправдав отождествление собственной персоны со святым Константином – победителем язычества.
Каделоны, Мэнго и Рабиоли в ранге пуатевинской аристократии
Период, находящийся в центре нашего внимания (конец XI–XII вв.), характеризуется целым рядом социальных и культурных процессов, ключевых не только для истории графства Пуату, но и для европейской истории в целом. Это время глубокой внутренней трансформации общества, которое к началу XII в. начинает выходить к этапу осмысления, формулирования и фиксации произошедших в нем перемен. Создание мемориальных церквей в XII в. – одна из таких внешних форм закрепления новых ориентиров мироустройства. Оно оказалось причастным сразу к нескольким вышеупомянутым глобальным ключевым процессам, из которых в нашем случае следует выделить два: во-первых, трансформация правовых и имущественных отношений между мирянами и церковью и закрепление нового порядка на практике; во-вторых, формирование благородного сословия и становление аристократических родов. Уделим здесь еще некоторое внимание второму феномену, сосредоточившись на графстве Пуату.
С ослаблением в XI в. зависимости от центральной власти и консолидацией власти на местах в форме шателении влиятельность местных сеньоров значительно возрастала. Земли и замки шателенов Пуату могли быть не только держанием от графа или наследным владением, но и феодом, полученным от другого крупного сеньора, например от графа Анжу. Все это усиливало независимость местной знати, у которой постепенно складывалось соответствующее осмысление самих себя и членов своих семей как общности тех, кто правит. Влиятельным линьяжам в XII–XIII вв. могло принадлежать по десять – пятнадцать замков в регионе[630]. Граф продолжал быть собственником большинства пуатевинских замков; крупные шателены Пуату оставались его спутниками и придворными; тем не менее на подвластной им территории шателены обладали значительной долей самостоятельной власти, до того невозможной. Среди этих баронов были потомки должностных лиц, ранее состоявших на службе у графа. Однако такая трансформация происходила не всегда: виконты и потомки викариев, обитатели замков Мель, Ольнэ и Дампьер, о которых ниже пойдет речь, ими не стали.