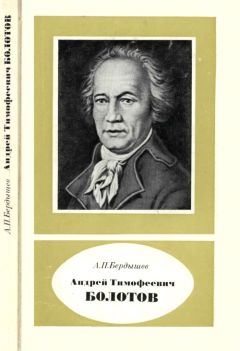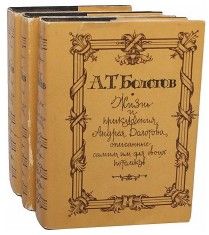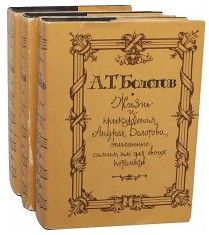В таких условиях быстро распространялись инфекционные болезни. К счастью, город избежал угрозы чумы, опустошавшей Москву в 1771 г. Туберкулез – другая инфекционная болезнь, пусть и не вызывавшая такого же страха, как чума, наряду с желудочными расстройствами неясного происхождения, был, пожалуй, причиной большинства смертей в городе[157]. Эти желудочные расстройства не были такими тяжелыми и заразными, как холера или тиф, да и нет никаких данных об эпидемии подобных болезней в рассматриваемый период. Они поразили Санкт-Петербург позже, в XIX в. Сейчас невозможно точно установить, что это были за желудочные расстройства с точки зрения современной науки, как ни соблазнительно было бы приписать их симптомы лямблиозу. Таким же образом, апоплексия, часто упоминаемая как причина внезапной смерти, могла означать и инсульт, и сердечный приступ, и какое-то другое внутреннее повреждение. Эпидемии оспы время от времени поражали Петербург до 1760-х гг. и грозили ему и впоследствии, несмотря на широко рекламируемые кампании оспопрививания горожан. Не существовало никакого надежного барьера и от вспышек гриппа, который тяжко обрушился на город в конце 1780-х гг.
Как бы это ни влияло на здоровье горожан, но способы, которыми в Петербурге избавлялись от отходов жизнедеятельности человека, показывают, что о нормах гигиены здесь заботились мало. Один из немногих наблюдателей, касающихся этой темы, Джон Паркинсон, отмечал, что при входе в дом вице-канцлера графа Остермана он был «почти отравлен вонью из нужника». Паркинсон фактически ни разу не видел стульчака – такого, какие вошли в моду в Англии, – ни в одном русском доме Петербурга, даже в Зимнем дворце. Зловоние остермановского «нужника», о котором Паркинсон писал в дневнике всякий раз, как посещал вице-канцлера, по его предположению, исходило из какой-то обычной ёмкости. Зимой, «так как всё замерзает, это неудобство незаметно; но весной, особенно когда начинает таять, эта неприятность невыносима»[158]. В низших слоях населения санитарные условия были, вероятно, ещё хуже. Наверно, следовало благодарить лишь холодные зимы за то, что не случалось серьезных эпидемий или вирусных инфекций.
При столь низких гигиенических нормах в целом неудивительно, что и в конце столетия местные жители все ещё считали «прозрачной и безвредной» невскую воду, которую использовали как питьевую, особенно процедив её дома. Зато вода из каналов была «мутная, илистая, нездоровая и неприятная на вкус» из-за отбросов, которые выкидывали в каналы из близлежащих домов[159]. Хуже всего была Мойка. Тем не менее люди продолжали пить из неё воду, правда, с предосторожностями – прокипятив и добавив уксуса, чтобы отбить запах.
В рассматриваемый период был достигнут значительный прогресс в обеспечении больных и немощных лечебными учреждениями, которое началось в 1763 г. с созданием Медицинской коллегии по указу императрицы. В то время сфера медицинского обслуживания ещё переживала своё детство, однако в Санкт-Петербурге при Екатерине было основано множество различных медицинских заведений и общественное здравоохранение распространилось довольно широко. Но до 1770 г. только военный и морской госпитали на Выборгской стороне были нормально оснащены для того, чтобы лечить пациентов хотя бы от простейших хворей. Основанный ещё при Петре Сухопутный госпиталь имел тысячу коек и штат почти в 80 человек профессиональных медиков. К концу екатерининского царствования в нём нашлось и место для нескольких докторов, служивших на сверхштатных должностях. Известные как «вольные» доктора, они стремились добиться полной профессиональной аттестации[160]. Военно-морской госпиталь был несколько меньше и примыкал к Сухопутному. Оба госпиталя лечили только людей в форме и бывали особенно загружены работой в военное время. Генрих Шторх записал, что за период войны 1788–1789 гг. в Морском госпитале лечилось от 7900 до 8800 пациентов[161]. По утверждению Георги, за 1790 г. через него прошло свыше 11 тысяч больных[162]. Ни один из госпиталей не был «городским» в строгом смысле слова, но, так как военное население Петербурга исчислялось десятками тысяч, они действительно обслуживали внушительную часть людей, живших в столице.
В 1770 г. для населения в целом прибавилось два лечебных учреждения. Во-первых, на тот случай, если в Петербурге возникнет угроза чумы, был открыт карантинный дом. (Чума вспыхнула в русской армии в Молдавии в 1768 г., а к 1770 г. дошла до Москвы.) Этот карантинный дом действовал только два года, пока сохранялась опасность чумы.
Постоянный же карантинный дом с центром оспопрививания был организован уже в 1783 г. Его деятельность состояла в бесплатном прививании детей от оспы весной и осенью за счёт императорского двора. Дети оставались под наблюдением центра на две недели, пока не заживало место прививки. За первые десять лет работы через эту процедуру прошло всего лишь около 1600 детей, примерно 55 % из них составляли мальчики. Официальная статистика зафиксировала за этот период только четыре смерти[163]. Поскольку количество привитых детей явно составляло лишь малую часть всех детей в Петербурге, можно подозревать, что только самые зажиточные семьи, особенно семьи выходцев из Европы, прибегали к этой услуге.
Других детей обслуживали Приют для подкидышей и Сиротский дом, которые тоже открылись в 1770 г., в основном благодаря покровительству Ивана Ивановича Бецкого. Несмотря на добрые намерения его попечителей, приюту удавалось спасать мало жизней. С 1770 по 1798 г. свыше 80 % младенцев и детей, попавших туда, умирало (большей частью в младенчестве)[164].
В 1779 г. открылась первая публичная больница на 60 коек. Она находилась на содержании казны и предназначалась прежде всего для тех людей, которые не имели средств, чтобы платить за лечение. К больнице примыкало отделение для душевнобольных. Обе эти лечебницы, расположенные в южной части города, на Фонтанке, были перегружены с самого начала. Быстрое расширение больницы стало возможно с сооружением в середине 1780-х гг. внушительного двухэтажного каменного здания на 300 коек. Впрочем, замечание современников о том, что можно бы втиснуть в него и 400, показывает, что эта больница удовлетворяла пока лишь самые первоначальные потребности города. В 1790 г. прибавилось ещё 260 мест, пригодных к использованию только в тёплое время года, – в неотапливаемых деревянных бараках, построенных Медицинской коллегией во дворе больницы. Для своего времени больница была современной и хорошо управлялась. Ею руководил старший хирург города, доктор Нилус. Кроме него в штат больницы входило ещё пять хирургов и вдобавок специалист, лечивший несчастных пациентов электричеством – экспериментальный метод для того времени, от которого, к счастью для пациентов, с тех пор давно отказались. В 1791 г. больницу оборудовали водопроводом с горячей и холодной водой. Воду накачивали в поставленные наверху резервуары и оттуда направляли по трубам по всему зданию. По своим гигиеническим и лечебным показателям больница вполне выдерживала сравнение с медицинскими учреждениями других европейских городов. Всех поступающих пациентов мыли, брили и переодевали в больничную одежду. Мужчины и женщины содержались строго раздельно. Нуждающихся больных лечили бесплатно (те из них, кто был в состоянии, в возмещение работали в больнице по хозяйству), а ремесленники и чиновники платили по 4 руб. в месяц[165]. В конце екатерининской эпохи Генрих Шторх утверждал, что казна ежегодно расходовала свыше 15 тыс. руб. на содержание городской больницы. Официальная статистика, фиксировавшая, сколько пациентов было принято, выписано, умерло, показывает, что уровень смертности на протяжении 1780-х гг. медленно снижался и достиг минимума в 14 % в 1792 г.[166]. Палата для душевнобольных, пристроенная позади больницы, представляла собой, наверное, первую попытку в России госпитализировать пациентов с психическими болезнями. Тех из них, кто впадал в буйство, связывали кожаными ремнями, а не цепями, а днём всех выпускали свободно бродить по территории, на которой имелся сад для отдыха. Палата вмещала одновременно 44 человека[167]. То, что их клали в больницу, а не просто помещали в сумасшедший дом, характеризует весь эксперимент как особенно просвещённый.
Кроме городской больницы было ещё несколько лечебных центров специального назначения. В 1783 г. открыли больницу для венерических больных. Там было всего 60 коек, половина мужских и половина женских. Из-за того что сифилис и гонорея считались в обществе позорными болезнями, здесь хранили имена пациентов в строжайшем секрете и вообще было принято лечиться инкогнито. Известная в народе как Калинкин дом, потому что она располагалась в дальнем конце Фонтанки, у Калинкина моста, эта больница, кажется, была гораздо меньше, чем следовало бы, судя по потребности[168].
К концу столетия при Медико-хирургической школе был открыт небольшой клинический госпиталь, в котором могли стажироваться 80 студентов-хирургов. Они практиковались в своём искусстве на неимущих пациентах, свыше сотни которых ежегодно проходило через госпитальные двери. Примерно тогда же лютеране Петербурга учредили благотворительную медицинскую службу для бедных. В совместной программе участвовало около двадцати врачей, оказывавших бесплатные врачебные услуги. Похоже, что они лечили лучше, чем в городской больнице, так как у них умирало меньше 10 % больных[169]. Наконец, нехватка обученных акушерок (отмеченная в городском Наказе 1767 г.) частично восполнилась открытием двух родильных приютов. Один находился при Медико-хирургической школе, а другой – при Воспитательном доме. В последнем учреждении хранили строжайшую конфиденциальность в отношении женщин, приходивших рожать; это значит, что родильный приют, по-видимому, помогал скрывать незаконные рождения в высшем свете. Если младенцев, рождённых в этом заведении, не забирали матери, то их отдавали в сиротский приют Воспитательного дома[170].