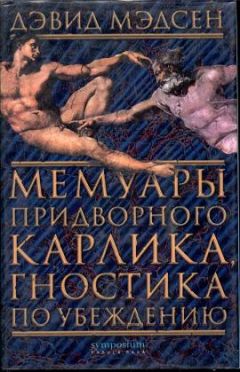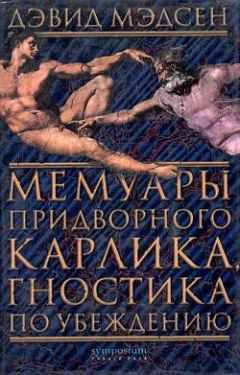Он ничего не ответил. Его невидящие глаза были неподвижно устремлены на лежащий на столе документ.
– Ты несомненно хочешь остаться один и подумать о своей вине, – сказал я.
Но он сейчас был не только слеп, но и глух. Я тихо затворил за собой дверь.
Все следующее утро я в лихорадочном нетерпении ждал известий о смерти фра Томазо делла Кроче. Они так и не поступили. То же, что я услышал, было очень странно: инквизитора похитили из места заключения при помощи хитрого плана, включающего в себя подкуп, подлог и насилие. В похищении участвовало четыре человека; из которых трое, по описанию, были полулюдьми-полузверями. Молодого монаха, которому было поручено прислуживать делла Кроче, жестоко убили.
Андреа де Коллини. Магистр. Какое дьявольское терпение он проявил, продумывая план, оттачивая все детали; он наслаждался своей хитростью, был заворожен темным покрывалом таинственности, которым окутал свои истинные намерения… И вот безумие полностью вышло на поверхность. Теперь я ясно видел, что зрело в его воспаленном мозгу, так же ясно, как видел свою медлительность.
С этим надо было покончить раз и навсегда.
1520–1521
Ессе, in culpa natus sum, et in peccato concepit me mater mea
В начале 1520 года мне казалось, что я нахожусь в совершенном одиночестве в своем собственном мире, – мире, который сочетал нереальность роскошного фарса с самым что ни на есть реальным присутствием крови и смерти. Лев был оставлен на меня – но ненадолго. Серапика необычно резко постарел, он больше не вышагивал гордо и не рассуждал радостно и изысканно о высоких государственных делах, а много сидел в задумчивости, погруженный в себя. Звезда Биббиены уже давно померкла, и теперь у власти был кардинал Джулио де Медичи, который вел себя словно второй Папа, налево и направо давал «аудиенции» и тем самым накапливал значительное личное состояние.
Следует еще сказать об одной важной кончине – умер маэстро Рафаэль. Его последним творением стало воистину вдохновенное изображение Преображения Христа. Эту работу заказал кардинал Джулио де Медичи для своего собора в Нарбонне. Полагаю, должно быть, очень трудно создать впечатление того, что человеческое тело поднято в воздух, так, чтобы это тело не казалось ни похожим на привидение, ни смешным и нелепым. Я не художник и не знаком с различными сложными техниками воплощения замысла, но мне кажется, что это просто триумф Рафаэля. Сам Христос излучает невозможную смесь величия и смирения, деятельности и покорности, великолепия и мягкости. И это тем более замечательно, что все это совершенно правдоподобно. Поскольку я гностик, то я также немного и мистик, и я могу сказать вам, что эта картина Рафаэля – мистическое творение. Человек не просто стоит и смотрит на картину – он приглашается в изображенный на ней мир, так что наблюдатель становится участником. Человек втягивается внутрь, если хотите, ибо сила ее духовного притяжения непреодолима. Картина была также очень ко времени, поскольку по существу она – великолепное утверждение веры в Христа (такой, какая у меня, ведь у Церкви ее явно нет), и кроме того, она еще больше усилила гнев христиан на продвижение иноверцев турок. Еще Папа Каликст III после победы над турками под Белградом в 1456 году объявил, что весь христианский мир ежегодно в августе должен отмечать праздник Преображения, и хотя нельзя сказать, что это событие было свежо в памяти, многие о нем могли еще вспомнить. Маэстро Рафаэль закончил лишь верхнюю часть картины (которая в любом случае и есть самая существенная), так как в последнюю неделю марта 1520 года он слег с нашей опасной и такой распространенной римской лихорадкой, что очень сильно подорвало его жизненные силы, которые и так были истощены работой. Он умер б апреля в Великую Страстную пятницу. Незавершенный шедевр был помещен у изголовья гроба. Маэстро было тридцать семь лет.
В этом месте стоит сказать, что я знал и теневую сторону маэстро Рафаэля, – знал более темного, более демонического Рафаэля, чем тот бледный мечтательный прекрасный гений, которого я уже описал. Мне удалось подглядеть это благодаря симпатичной, но довольно толстой девушке, которая работала на кухне в папском дворце. Звали ее Филиберта. Она явно как-то услышала кусок разговора между мной и Серапикой, когда мы обсуждали атрибуты маэстро Рафаэля, как телесные, так и духовные. Не знаю, как так получалось, но Серапика и я все время сталкивались друг с другом в коридорах и залах и обменивались разными сплетнями. Сера-пика был неисправимым gobe-mouche. Темой нашего разговора часто становилась неразделенная страсть Льва к Рафаэлю – особенно в те вечера, когда маэстро был приглашен к нам на ужин.
Девушка по имени Филиберта подкралась ко мне однажды и прошептала:
– Его Святейшество облизывается только издали, а я не собираюсь.
– Что?
– Ты же слышал, что я сказала. Десять дукатов, и я перепихнусь с ним завтра вечером. Можешь посмотреть, если хочешь, чтобы убедиться.
Я поколебался мгновение, затем сказал:
– Как ты смеешь предлагать подобное. Без тени смущения она ответила:
– Только не надо важность изображать! Я всего лишь предлагаю, может быть, Ваша Милость хочет поспорить.
– Я не «Ваша Милость».
– Кто же тогда?
– Спроси что-нибудь полегче.
– Десять дукатов на то, что до завтрашнего вечера та огромная кисточка, что у Рафаэля между ног, побывает у меня внутри.
– Ты отвратительна, – сказал я. – Где?
– Где хотите. На этой неделе он ведь ночует здесь? Тогда в его личных апартаментах. Там с ним перепихнусь.
– Не посмеешь, – прошептал я.
– Десять дукатов?
– Спорим. Тебе известно что я мог бы велеть выпороть тебя за это?
– Да, но не велишь. Ты один из нас.
– Что это значит?
Она критически оглядела меня с ног до головы и сказала:
– Не один из них.
Следующим вечером, пока маэстро Рафаэль был на аудиенции у Его Святейшества, я спрятался у Рафаэля в апартаментах за маленьким карточным столиком. Я прождал почти час, прежде чем услышал, как они идут.
– Не представляю, что благородному господину нужно от такой простой бедной девушки с кухни, как я, – сказала Филиберта с тошнотворным деланным кокетством.
– Зачем же тогда напросилась?
В голосе маэстро Рафаэля была холодная безжалостность и жесткость, незнакомые мне до этого.
– Мне здесь раздеться?
– Да.
– Обещай, что никому не скажешь! Это может стоить мне места.
– А мне это наверняка может стоить здоровья.
– Что? Вы что, намекаете, что у меня может быть что-то, чего не должно быть у порядочной девушки?
– Именно так. Разоблачайся.
– Я люблю такие изысканные слова.
– Давай раздевайся!
Сейчас его голос был не только твердым, но и нетерпеливым, настойчивым.
Они оба голые легли на пол. Медно-золотой свет от затухающего камина окрашивал в глубокие тона их переплетенные руки и ноги. Его худое мускулистое тело с опаловыми ягодицами, покрытыми темными волосками, едва заметно двигаясь, утонуло в ее embonpoint, в пухлых раздвинутых бедрах и колышущихся сочных арбузах грудей, – в объятиях только-только начавшего пробуждаться желания.
Но вот уже всколыхнулась страсть! Наплыв пылкого стремления, emeute явного влечения, похоти. Я слышал, как любовник он был человеком facile princeps, но сейчас, когда я смотрел, присев за карточным столиком, мне казалось, что это она ведет, она распаляет его тихими призывными стонами, она предлагает средство сбить жар, а он, чуть ли не вяло, томится в горячих волнах ее алчущего тела. Вот они начали целоваться, жадно слившись ртами, сливаясь языками, присасываясь губами. Он обхватил кончиками пальцев ее соски, заметно напрягшиеся, эрегированные, ставшие похожими на две орехового цвета джирандолы, и она задвигалась под ним, сладострастно постанывая.
– Мой мальчик… ох, мой миленький!
Он приподнялся на локтях, и я увидел, как у ее пухлого обширного тела колышется невероятно длинный и толстый пенис с красной и лоснящейся головкой. Она посмотрела на его пенис жадным взглядом:
– Ой, смотрите! Вот он! Мое чудовище, мой Голиаф, король членов… ой, ой…
От страсти она теряла рассудок. У меня в голове мелькнул вопрос: «Что ты тут делаешь? Смотришь, как трахают эту вульгарную бабищу?» Но я тут же прогнал эту мысль. Так как желание узнать о способностях маэстро Рафаэля было сильнее сознания нелепости, по крайней мере в этот момент.
Она запустила свою грязную в ямочках руку себе между ног и принялась водить ею по своему матово-блестящему кустику волос, судорожно вздыхая и мотая из стороны в сторону головой. Затем она взялась за его морщинистую мошонку и подержала ее в ладони.
– Только потрогай, какая тяжелая, – простонала она хрипло.
– Трогаю, – сказал Рафаэль, – каждый день.
И он опустился на нее, или, точнее, погрузился в нее, в двух смыслах: во-первых, его окружило ее пышное тело – маленькая terra firma костей и мышц оказалась среди океана плоти, похожей на взбитые сливки, – и во-вторых, его член отыскал вход между жемчужных бедер и скользнул по гладкой шелковой дороге до самого основания.