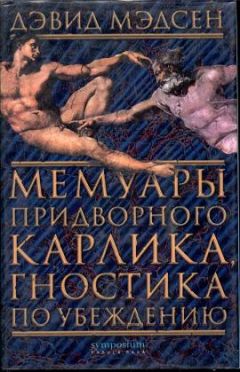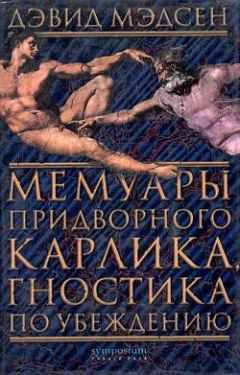Но будет отличие! И какое это будет отличие! Ведь Пеппе, убогий торговец вином из Трастевере, теперь будет убогим торговцем вином – гностиком из Трастевере. Он будет знать об убожестве жизни, понимать ее и бороться с ней, в то время как раньше он просто терпел убожество, как бессловесная скотина. Он будет знать, что даже в самых жестоких и злых человеческих существах есть – пусть затуманенное – сияние бессмертной души, упавшей с груди истинного Отца Небесного, – души, которой можно только сострадать, пока она снова не поднимется к своему истинному истоку и началу. Он будет знать, что лицо бесчеловечности есть лишь маска, прочно надетая на лицо божественности. И всеми способами, пусть тщетно, он будет стараться снять эту маску.
И в мгновения, когда у него будет доставать храбрости, когда тьма кругом глубока, а силы убывают, он посмотрит вокруг на всю боль, все страдание, слезы, трагедии и просто бессмысленность; он посмотрит вокруг, погрозит кулаком заблудшему, безумному Ego, изрыгнувшему этот мир, и воскликнет: Non serviarn! – «Не буду тебе служить, потому что ты не Бог».
Я хочу дать вам совет: поняв и приняв фундаментальный принцип – а именно то, что Бог любви не мог сотворить материальный мир, – потратьте остаток своих дней, распространяя всеми способами эту истину. Усилие никогда не пропадет даром, каким бы слабым оно ни было, ведь вполне возможно и долину превратить в океан капля за каплей, если есть терпение. Если вы король (или Папа) – служите Свету, находясь среди других королей; если вы поэт или художник – служите Свету своими произведениями; если вы нищий – служите Свету своими лохмотьями и протянутой рукой. Именно это я и собираюсь делать, и, поверьте мне, если нас будет достаточно рассеяно по миру, служащих Свету и распространяющих истину всеми доступными способами, то мир начнет меняться. Миру нужна тайная армия гностиков, чтобы образумить его и дать понять ему – и всем в нем живущим, – что он всего лишь ад.
Сегодня я очень странно себя чувствую! Несколько часов назад я сидел в своей комнате (моей она будет уже недолго) и сочинял песню. Едва ли следует говорить, что все чувства относятся к ней, Моей Лауре.
Вот что я сочинил:
Будет еще одно отличие – огромное, – о котором я теперь должен вам рассказать. Это явилось для меня невероятной неожиданностью (если не сказать потрясением), и даже сейчас я не вполне в это поверил. Но я просто должен в это поверить, так как свидетельство у меня перед глазами, да и будет у меня перед глазами до конца жизни!
Недавно, уже ближе к ночи, когда я находился один в комнате, разбирал свои личные вещи, размышляя над ними, и упаковывал их, в дверь тихо постучали.
– Заходите! – крикнул я раздраженно, решив, что это кто-то из служащих пришел поторопить меня, чтобы я поскорее убирался.
Стук повторился.
– Да входите же, ну!
Дверь медленно отворилась, я обернулся и увидел в тусклом свете молоденькую девушку: красивую девушку с бронзово-золотыми волосами, обрамляющими бледный овал лица. Что-то в глубине меня затрепетало, словно я услышал давно забытую мелодию, и, почувствовав этот трепет, я заволновался. Я вдруг ощутил грусть, без всякой явной причины.
– Вы Джузеппе Амадонелли, – сказала она.
Это была констатация факта, а не вопрос.
– А ты? Я… мне… мне кажется, я тебя где-то видел…
– Вы видели меня при определенных обстоятельствах.
– Да?
– В доме Андреа де Коллини.
Тут я вспомнил, что действительно видел ее раньше: она присутствовала на нескольких наших литургиях, сидела с другими неофитами у ног магистра и изучала принципы гностической философии. Но не помню, чтобы я обращал на нее особое внимание. Я с ней никогда не разговаривал. Она была одной из многих.
– Меня зовут Кристина, – сказала она. Голос у нее был нежным, мелодичным. – Можно мне войти?
– Входи, пожалуйста, – ответил я, – но только, как видишь, я собираюсь переезжать.
– Значит, ваша жизнь при папском дворе закончена?
– Конечно. Мое солнце перестало светить.
– Но утром взойдет новое солнце, – сказала она тихо, и мне показалось, что в ее словах был более глубокий, более важный смысл, чем тот, что на поверхности. Она имела в виду что-то другое, не выборы нового Папы, а то, что я не понимал.
– Такое солнце, как мое, светить уже не будет, – сказал я грустно. – Такого, как Лев, больше не будет. И, увы, когда солнце гаснет, все меньшие звезды и планеты, вращающиеся в его сиянии, должны также померкнуть и в конце концов умереть. Каждое светило умирает, когда гаснет огонь великого солнца. Моим великим солнцем был Лев.
– Да, я знаю.
– Ты его знала? – спросил я, удивленный.
– Не совсем. Папу ведь все знают?
– Все знают о нем, – сказал я, – но это совсем другое. Я лично знал и любил этого человека.
Она без стеснения прошла по комнате и села в кресло у моего письменного стола; на то самое кресло, рядом с которым я сидел, когда писал эти мемуары.
– Что тебе надо? – спросил я.
Чем дольше я на нее смотрел, тем сильнее это что-то внутри меня трепетало и колыхалось, словно живое существо, но что? Что такое было в золотой пряже ее волос, бледных безупречных чертах лица, в интонации нежного голоса, что одновременно притягивало и отпугивало меня? Да, говоря правду, я действительно боялся, чуть-чуть. Но почему?
– Не знаю, как вы примете то, что я собираюсь вам сказать, – начала она. – Это так долго от вас скрывалось. О, поверьте, я в этом не виновата! Он настаивал!
– Он?
– Магистр Андреа. Андреа де Коллини. Он считал, что так лучше. Говорил, что нам надо подождать. Но теперь… теперь, когда магистр мертв… мне некуда… не к кому… какой смысл дальше держать это в тайне?
– Что держать в тайне? – спросил я, недоумевая и все еще боясь.
– А вы не догадываетесь?
– Нет. Да и загадки разгадывать мне некогда.
– Что вы собираетесь делать?
– Делать?
– То есть чем собираетесь заниматься. В жизни. Куда вы пойдете?
– Почему это тебя должно касаться?
– Меня это касается, поверьте! У меня есть все права.
– Какие еще права?
Она посмотрела на меня своими большими красивыми глазами, и в них была глубокая печаль. Затем она тихо сказала:
– Право на защиту, на средства к существованию, право на общение, на поддержку.
Я помотал головой.
– Не понимаю, – сказал я.
Наступило мгновение красноречивого молчания. От волнения мое сердце колотилось и стучало, как барабан. Она сказала:
– Права, которые каждая дочь может требовать от своего отца.
О, нет, только не это… Она продолжала:
– Я ваша дочь, Джузеппе Амадонелли.
Эти волосы, это лицо, этот голос – они как у Лауры! Я мгновенно узнал черты Лауры, и этот миг поразил меня, как – милый Иисус, какими словами это можно описать – как исцеление от долгой болезни, как богатство, упавшее вдруг в руки бедняка, как шум всего мира, нахлынувший на глухого, у которого вдруг прорезался слух. В потрясении было одновременно и очарование, и ужас. Какое-то время я не мог говорить, я смотрел на нее, пораженный, молча, и снова в ее красивых глазах я увидел взгляд своей любимой Лауры. Но как? Во имя Господа, как?
– Ты жила у него?
– После того, как меня выпустили из тюрьмы, да.
– И он не хотел, чтобы я узнал?
– Не хотел.
– Но… но это невозможно! Да ты посмотри на меня, Кристина! Посмотри на меня и посмотри на себя, – я не могу поверить…
Ее голос зазвучал вдруг настойчивее, с большим чувством.
– Но вы должны поверить! – воскликнула она. – Должны!
– Должен? – повторил я.
– Вы… вы все, что у меня осталось…
– Тогда мне тебя очень жаль, моя дорогая, – сказал я.
– Нет! У меня нет никого, кроме вас. Куда я пойду, что я стану делать без вас? Вы не можете от меня отказаться… не можете прогнать меня…
– Но я чужой тебе, Кристина!
Она медленно помотала головой и едва заметно улыбнулась.
– Совсем нет, – проговорила она. – Я все о вас знаю. Магистр мне рассказал. Он рассказал мне то, что моя мать ему рассказала.
– Не может быть, чтобы я был твоим отцом. Ты наверняка ошибаешься.
– Вы разве не помните ту ночь, когда я была зачата? – тихо сказала она.
Я начал чувствовать раздражение, – раздражение, неловкость и волнение. Она продолжала:
– Это произошло в доме магистра, ведь так? В доме моего деда! Таким способом моя мать передала вам знание, которое вы должны были приобрести, чтобы затем отвергнуть. Ведь она так говорила? Магистр сказал, что так. Она сама была вашим учителем, она сама передала вам это знание. Вы занимались любовью с ней, с моей матерью, Лаурой.
– Один-единственный раз, – сказал я со слезами на глазах.
– И этого было достаточно. В ту ночь я была зачата в ее чреве.
– У нас не было такого намерения… мы не думали заводить ребенка. Совсем не думали. Я познал плотское наслаждение только затем, как ты сама сказала, чтобы впоследствии отречься от этого наслаждения, либо воздерживаясь, либо извращая его цель. Как же мы могли хотеть ребенка?