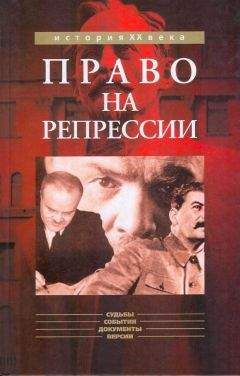Зиновьев Александр
Русская судьба, исповедь отщепенца
Моей матери Зиновьевой Апполинарии Васильевне, великой русской женщине, посвящаю эту исповедь
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Эта книга была написана в 1988 году и опубликована во Франции и Швейцарии в 1990 году. Здесь она печатается с некоторыми сокращениями и исправлениями. Хотя книга писалась в то время, когда в Советском Союзе уже началась перестройка, я сознательно избегал говорить на эту тему. Цель книги была (по договоренности с издателем) описать, почему я стал писателем, автором "Зияющих высот", и почему оказался в изгнании на Западе. Фактически книга вышла далеко за рамки этой цели: она оказалась описанием того периода русской истории и тех явлений русской жизни, в которых вызревала перестройка.
Еще в довоенные годы я, скрываясь от всесильных органов государственной безопасности, в состоянии полного отчаяния сочинил такое стихотворение:
Настанет Страшный суд. Нас призовут к ответу.
Велят заполнить за прожитое анкету.
И в пункте, из какой земли и из какой эпохи,
Двадцатый век, Россия, - будут наши вздохи.
От слов от этих Богу станет гадко.
Опять проклятая российская загадка!
Нельзя пускать их в рай, двух мнений нету тут.
Их души тяжкий грех в себе несут.
Но как же быть?! В какой впустить их край?!
После России им и ад покажется как рай.
Прошло почти шестьдесят лет после этого. Но я и сейчас взял бы это юношеское стихотворение эпиграфом к этой книге.
Мюнхен, 1998
Существуют различные формы мемуаров. Среди них можно выделить одну, которую можно назвать словом "исповедь". От других форм она отличается тем, что главным предметом внимания являются не приключения автора, а его размышления и переживания, и не хроникальное описание отдельных событий, а анализ потока жизни, в который был вовлечен автор.
Исповедь не есть автобиография, написанная для каких-то официальных и справочных целей. Не все, что случалось с автором, попадает на ее страницы. А то, что попадает, описывается не всегда в том виде, в каком это мог бы и хотел бы увидеть посторонний наблюдатель, и без тех пикантных деталей, какие любопытно было бы узнать читателю. Это происходит не потому, что автор хочет изобразить себя в наилучшем виде или ввести в заблуждение читателя, а в силу особенностей самой формы исповеди. В моей исповеди, в частности, сыграли роль такие сдерживающие причины.
В моей жизни случались события, о которых я не буду рассказывать никому и никогда. Часть из них касалась не только меня, но и других. Я связан по отношению к ним обетом молчания и священной тайны. О других мне больно или стыдно вспоминать. Я умалчиваю о них не из страха показаться грешником. Такого страха у меня нет. Я готов признать греховность всей моей прожитой жизни. И упоминание о нескольких мелких грехах вряд ли изменило бы общее впечатление. Я умолчу о таких грехах из чисто вкусовых соображений. Я считаю просто неприличным говорить о них, как считаю неприличным рассказывать о приключениях в туалете или в кровати. Если хотите, я просто старомоден, причем из принципа.
Мне часто приходилось наблюдать и испытывать на себе проявление самых гнусных качеств человеческой натуры. Многие люди причиняли мне зло. Я очень рано постиг, что именно имел в виду Лермонтов, когда в одно из самых прекрасных в русской литературе стихотворений включил слова "друзей клевета ядовитая". Но сам я не рассматривал в качестве личных врагов даже тех, кто по долгу службы или по призванию писал на меня доносы, клеветал, преследовал, чинил всяческие неприятности. Я никогда на личное зло не отвечал злом. Я знаю, что самим фактом своего существования и деятельности я вызывал раздражение и негативные эмоции у многих людей. Но этот аспект жизни не подлежит моральной оценке. Я всегда смотрел на зло, причиняемое мне людьми, как на проявление свойств самого строя жизни людей, использующего их лишь как свои орудия. В противоположность тем, кто персонифицирует социальные причины, я впадал в другую крайность - социализировал даже такие поступки людей, которые были продиктованы индивидуальными страстями. Моим главным контрагентом с ранней юности была социальная система моей страны. И лишь во вторую очередь моими контрагентами были люди, олицетворявшие систему.
В моих личных отношениях с людьми я стремился предоставить им все преимущества. Так и в этих мемуарах я не хочу изображать себя в качестве доброй жертвы злых людей и плохих обстоятельств. Наоборот, я готов признать себя негативным явлением в породившем меня позитивном социальном окружении. Я готов признать нормальным мое социальное окружение, а себя - отклонением от нормы. Я не горжусь этим, но и не сожалею о том, что так произошло. Как в прожитой жизни я уступал дорогу всем, кто считал, что я мешаю им идти, и избирал другой путь, на который не претендовал никто, так и в этих мемуарах я не хочу сводить счеты с теми, кто причинял мне зло. А это и означает умолчание о многом таком, что могло быть поводом для мести. Исповедь есть признание и покаяние, но не месть. Конечно, я не мог полностью избежать такого рода описания, так как без этого были бы непонятны некоторые важные явления моей жизни. Но я свел их к минимуму и лишил их драматического смысла, какой они имели в свое время.
ОТНОШЕНИЕ К ФАКТАМ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Я никогда не думал, что факты моей личной жизни могут для кого-то представлять интерес, кроме разве что советских карательных органов и лиц, желающих причинить мне зло. Поэтому я никогда не стремился афишировать их и даже запоминать. Многие из этих фактов были такого рода, что память о них причиняла страдания, и я преднамеренно стремился забыть о них. Я избегал засорять память незначительными пустяками, какими мне казались явления моей личной жизни, полагая, что мои интеллектуальные возможности я мог использовать для дел гораздо более важных. То, что так или иначе оседало в моей памяти, касалось в основном не лично меня, а окружающих меня социальных феноменов. Постепенно это стало чертой моего литературного и вообще жизненного вкуса. Мелочный педантизм в отношении к фактам личной жизни стал вызывать у меня отвращение при чтении сочинений других авторов, и я перенес это на самого себя.
Общеизвестно, что память человека не подчиняется правилам логики. Она не классифицирует события его жизни как существенные и несущественные и не отдает предпочтения первым. Я, например, помню до сих пор номер телефона, по которому мне пришлось звонить первый раз в жизни еще в 1933 году, но не помню номер телефона своей собственной квартиры, в которой жил много лет в Москве. Я помню номер винтовки, которую мне вручили в 1940 году в армии, но не помню названия и расположения населенных пунктов, в которых мне приходилось бывать во время странствий в 1939 - 1940 годах. Я помню имя коня, которого мне дали по прибытии в кавалерийский полк. Но я не смог в течение многих месяцев, пока писал книгу, вспомнить имя парня, с которым делился куском хлеба и сокровенными мыслями и который доносил обо мне в Особый отдел полка. Так что если строго следовать тому, что застряло в памяти, то объективная картина жизни не может получиться даже при наличии искреннего намерения быть объективным. Потому систематизированный анализ прошлого с точки зрения конечных результатов жизни мне представляется более надежным средством объективности, чем фрагментарное припоминание разрозненных деталей потока жизни.
Кроме того, у меня есть и принципиальное соображение относительно отбора фактов личной жизни для предания их гласности. Оценка фактов жизни как значительных или незначительных зависит не столько от того, какую роль они на самом деле сыграли в жизни автора, сколько от того, какой вес им придается общественным мнением в нынешней ситуации. Если автор поддается влиянию общественного мнения, он так или иначе вынуждается на путь создания ложной картины своей собственной жизни. Например, я очень рано стал антисталинистом. Разумеется, мне было кое-что известно о сталинских репрессиях в то время. Но не так уж много. Основная информация об этом стала доступной лишь в послесталинские годы, когда мой антисталинизм потерял для меня смысл. Зная, какое значение сейчас придается этим репрессиям в описаниях советской истории и советского общества, я мог бы на эту тему написать много десятков страниц. И тогда для читателей мой антисталинизм сегодня показался бы совершенно обоснованным, само собой разумеющимся. Но это была бы грубая историческая ложь. В формировании моего антисталинизма факты репрессий не играли почти никакой роли. Я был сам подвергнут репрессии за мой антисталинизм, сложившийся совсем по другим причинам. Те гонения, которым я подвергался за мой антисталинизм, не добавили абсолютно ничего нового в мои умонастроения. Более того, я не воспринимал их как несправедливость. Факты личной жизни, способствовавшие формированию моих антисталинистских умонастроений, в глазах современного общественного мнения выглядели бы настолько ничтожными, что упоминание о них вызвало бы лишь недоверие и насмешку. Кто, например, примет всерьез то, что моя фамилия Зиновьев - внесла свою долю в это. Меня за нее в детской среде постоянно называли "врагом народа", вынуждая уже в детских играх на роль человека, противостоящего коллективу и всему обществу. В реальной истории порою огромные причины проявляются в ничтожных фактах, а грандиозные факты проявляют ничтожные причины.