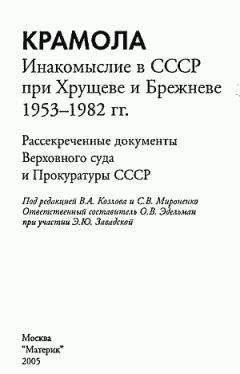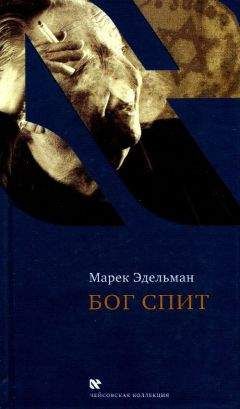Коллектив авторов
КРАМОЛА
Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953-1982 гг.
Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР
Под редакцией В.А. Козлова и С.В. Мироненко Ответственный составитель О.В. Эдельман при участии Э.Ю. Завадской Москва «Материк» 2005
Что такое крамола?
В августе 1974 г. журнал «Посев» опубликовал интервью с русским поэтом Александром Галичем, только что эмигрировавшим из Советского Союза. В числе прочих был вопрос о диссидентах: «В западной печати обычно употребляется термин «советские диссиденты». Насколько точно он отражает суть дела?» Галич ответил, что формула «диссиденты», так же как и ее русская версия «инакомыслящие», ему не очень нравится. В качестве альтернативы поэт предложил термин «резистанс» («своего рода сопротивление»[1]) и закончил интересным рассуждением о «молчаливом резистансе» – десятках и сотнях тысяч людей, составлявших фон, на котором развертывается деятельность активных диссидентов и без которого инакомыслие не могло бы существовать.
Я бы не стал, подобно Александру Галичу, слишком уж критически относиться к выразительному русскому слову «инакомыслящий», тем более заменять его на «резистанс» или «диссидентов» – ив том и в другом случае использование понятия из другой культуры и языка способно исказить восприятие во многом уникального советского явления. Однако за репликой поэта бесспорно стояла проблема. Он, вероятно, почувствовал узость самоназвания – «инакомыслящий», «диссидент», их временную, географическую и социальную локальность (небольшая группа в основном столичной интеллигенции, конец 1960-х-1970-е гг., занятая полулегальной правозащитной деятельностью и «самиздатом») и существование каких-то иных слоев социальной и культурной реальности, к которым эти слова явно не подходят, которые как бы не имеют самоназваний.
В самом деле, трудно назвать диссидентом и инакомыслящим недовольного зарплатой рабочего, напившегося и с горя назвавшего Сталина сволочью, Хрущева свиньей или Брежнева болваном. Точно так же трудно считать диссидентской традиционную антиправительственную подпольную деятельность, связанную, например, с распространением листовок и подметных писем, тем более создание подпольных организаций маоистского, фашистского или сталинистского толка. Боюсь, что правозащитники 60-70-х гг., осуждавшие «подпольщину», вряд ли бы идентифицировали эти случаи как «свои» или, на худой конец, снабдили бы эту самоидентификацию множеством оговорок.
Интересно, что в третьем издании «Словаря русского языка» С.И. Ожегова, подписанном в печать через неделю после смерти Иосифа Сталина, слово «инакомыслящий» (имеющий иной образ мыслей) вообще было отнесено к числу устаревших[2]. Жестокая эпоха, уходившая вместе с диктатором, изобрела новые, более жесткие выражения для обозначения людей с альтернативным образом мысли (например, вошедшее в обиход сразу после Октябрьской революции «враги народа»), а умерший тиран, казалось, оставлял своим политическим наследникам настолько «прополотое» чистками и массовыми репрессиями общество, что в этом «идеологическом монолите» трудно было найти место инакомыслию и инакомыслящим. Тогда, на заре эпохи «либерального коммунизма», вряд ли можно было себе представить, что спустя 15 лет слово «инакомыслие» станет расхожим и общеупотребительным, а обозначать оно будет фактически новое (возрожденное?) явление послесталинской общественной жизни.
Однако «инакомыслие», повторю это еще раз, оказалось, в конце концов, самоназванием достаточно локального движения столичной интеллигенции, на участников которого практически невозможно наклеить универсальную идеологическую этикетку: слишком много индивидуального привносил в движение каждый. За пределами этого привлекательного понятия оказался гораздо более широкий слой реальности, который Галич как раз и попытался очень неточно определить как «молчаливый резистанс» и которому, может быть, больше подходит архаичное русское слово «крамола» – со всей многослойностью и множественностью выраженных в нем культурных смыслов. Этому слову не суждено было возродиться в языке 1950-1980-х гг., но стоящие за ним исторические аллюзии и ассоциации – «возмущение, мятеж, смута, измена, ковы, лукавые замыслы»[3], особенно «лукавые замыслы», очень точно отражают подозрительное отношение правящего коммунистического режима к образу мысли своих подданных. Другими словами, крамола – это не самоназвание той или иной группы инакомыслящих, а квалификация традиционной для России оппозиции народа и власти, оценочное суждение власти и ее сторонников о своих реальных или потенциальных противниках. В этом, собственно говоря, и российская специфика термина. Разномыслие, органичное и приемлемое для любой демократической страны, превращалось в крамолу только благодаря специфическому отношению властей к этому разномыслию. Не будь этого отношения – не было бы и крамолы как культурно-политического явления. Все, что не находило себе места в легальной политической культуре советского общества, фактически интерпретировалось в категориях измены, предательства, смуты, на худой счет проходило по разряду подозрительных и смутьянских «лукавых замыслов».
Патриархальные представления о крамоле, во многом определявшие отношение властей и их бюрократических аппаратов к инакомыслию, вполне сочетались с политической прагматикой режима, ибо опасны для него были не только, а иногда даже и не столько те или иные альтернативные мысли сами по себе, сколько потенциальная опасность свободного высказывания любых мыслей, пусть даже и вполне марксистских. Для коммунистических властей фактически не существовало идеологических вариаций и оттенков, так же как и их мотивированного приятия или отвержения, «дружественных» и «недружественных» идеологических конструкций.
Чтобы убедиться в том, что «допущение» «уклонов» само по себе, неважно каких, было чревато гибелью режима, достаточно вспомнить о крахе коммунизма в СССР. Политически и идеологически коммунизм рухнул не потому, что его разрушила либеральная антикоммунистическая критика, а потому, что он допустил критику как таковую, открылся для ударов как либералов, так и социалистов, как монархистов, так и эгалитаристов, то есть совершенно противоположных идеологических течений, ни на минуту не перестававших враждовать друг с другом, но приложивших все силы для того, чтобы сделать свое взаимное отрицание легальным, то есть уничтожить «коммунизм» как особый тип бюрократически организованной «партии-государства».
Стоит ли удивляться, что люди, взгляды и действия которых привели их в послесталинские, казалось бы, более либеральные времена к аресту и на скамью подсудимых, занимали порой диаметрально противоположные политические и идеологические позиции. Объединяли же этих людей, повторю это еще раз, даже не критика и противостояние власти сами по себе, не антикоммунизм, а отношение режима к крамоле. Это вполне религиозное отношение к инакомыслию как к ереси допускало на каждый данный момент одну-единственную интерпретацию Истины, списки утвержденных Политбюро героев и врагов, перечни «плохих» и «хороших» исторических событий и даже научных открытий.
Поэтому и оказались на полках Государственного архива Российской Федерации (в фондах Верховного суда и Прокуратуры СССР) дела об античеченских высказываниях русских из города Грозного и об антирусских выступлениях чеченцев, о судебных приговорах за «проявления» антисемитизма и за «сионистскую пропаганду», за коммунистическую («ревизионистскую») и фашистскую критику правящего режима, за либеральные атаки на коммунистов и маоистские, троцкистские или сталинистские обвинения власти в «буржуазном перерождении». На основании одних и тех же статей Уголовного кодекса были осуждены и оказались в тюрьмах и лагерях ярые защитники «подлинного ленинизма» и поклонники монархии, сторонники идей «капиталистического возрождения» и отрицатели коммунистической диктатуры за порожденный ею «дачный капитализм» и бюрократические привилегии.
Когда долго читаешь такие документы, окончательно убеждаешься в том, что идеологические мотивы играли в судебных преследованиях инакомыслящих важную, но, может быть, не определяющую роль. Можно ли считать целью судебных или полицейских преследований подавление антикоммунистических настроений и идей, если просоциалистические и марксистские вариации также подлежали беспощадному искоренению – при малейших отступлениях от принятых на данный момент официальных толкований. Репрессии и должны были воспитать в людях «идеологическую дисциплину», готовность если не думать, то хотя бы говорить по приказу Центрального Комитета или… по крайней мере – молчать!