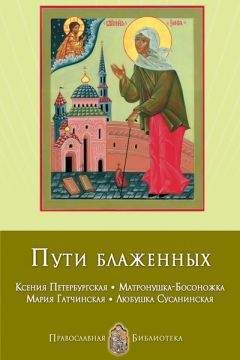Федин Константин
Первые радости (Трилогия - 1)
Константин Александрович Федин
Первые радости
(Трилогия - 1)
Роман
В историко-революционной эпопее К.А.Федина(1892-1977) - романах "Первые радости" (1945) о заре революционного подъема и "Необыкновенное лето" (1948) о переломном 1919 годе гражданской войны - воссоздан, по словам автора, "образ времени", трудного и героического.
Посвящается Нине Фединой
1
Девочка-босоножка лет девяти трясла на коленях грудного ребенка, прижав его к себе и стараясь заткнуть ему разинутый рот хлебной жевкой в тряпице. Ребенок вертел головой, подбирал к животу голые ножонки и дергался от плача.
- А ну тебя! - рассерженно прикрикнула девочка и, положив ребенка на каменную плиту крыльца, встала, отряхнула колени, прислонилась к теплой стене дома и сунула руки за спину с таким видом, будто хотела сказать: хоть ты изойди криком, я на тебя даже глазом не поведу!
Шел один из последних дней пасхи, когда народ уже отгулял, но улица еще дышит усталой прелестью праздника, и немного жалко, что праздник уже почти кончился, и приятно, что конец не совсем наступил и, может быть, доведется еще гульнуть. Снизу, с берега Волги, пробирались деревянными квартальцами завыванья похмельной песни, которая то сходила на нет, то вдруг всплескивала себя на такую высоту, откуда все шумы казались пустяками - и гармоника с колокольцами, где-то далеко на воде, и безалаберный трезвон церкви, и слитный рокот пристаней.
На мостовой валялась раздавленная скорлупа крашеных яиц - малиновая, лазоревая, пунцовая и цвета овчинно-желтого, добываемого кипяченьем луковой шелухи. Видно было, что народ полузгал вволю и тыквенных и подсолнечных семечек, погрыз и волоцких и грецких орехов, пососал карамелек; ветром сдуло бумажки и скорлупу с круглых лысин булыжника в выбоины дороги и примело к кирпичному тротуару.
Девочка глядела прямо перед собою. Была полая вода, уже скрылись под нею песчаные острова, левый луговой берег как будто придвинулся, потяжелел, а мутная, шоколадно-навозная Волга раскалывалась поперек надвое, от берега к берегу, живой, точно из шевелящегося битого стекла, солнечной дорожкой. Пахло молодыми тополиными листочками, сладким илом берега, тленом запревших мусорных ям. Мухи жужжали, отлетая от стен и снова садясь. Все насыщалось теплом весны, ее ароматом, ее звуками, ее кирпичной тротуарной пылью, закрученной в поземные вороночки ветра вместе с праздничным сором.
Природа часто переживает важные перемены и очень многозначительно отмечает их странным выжидательным состоянием, которое разливается на все окружающее и волнует человека. Весна, когда она совершит перелом, задерживается на какое-то время, приостанавливается, чтобы почувствовать свою победу. Поторжествовав, она идет дальше. Но эта остановка чудесна. Природа оглядывает себя и говорит: как хорошо, что я бесконечно повторяюсь, чтобы снова и снова обновляться!
Девочка пропиталась этой минутной самооглядкой весеннего дня. У нее были темные синие глаза, не вполне сообразные с белобрысой головой, большие и не быстрые, тяжелее, чем обычно для такого маленького возраста, поэтому взгляд ее казался чересчур сосредоточенным. Косица в палец длиной затягивалась красной тесемкой, платье в полинялых рыжих цветочках было опрятно.
Ребенок все орал и сучил ногами, а девочка не могла оторваться от невидимой точки, в которой не было ничего и, наверно, заключалось все вместе - песня, трезвон, огромная река и солнце на ней, запахи деревьев и жужжание мух.
Вдруг она повернула голову.
На безлюдной улице раздалось цоканье подков с звонким срывающимся лязгом железа о булыжник. Серый конь в яблоках, покрытый синей сеткой с кисточками по борту, рысисто выбрасывая ноги, мчал пролетку на дутых шинах, и по-летнему в белый кафтан одетый извозчик, вытянув вперед руки, потрясывал дрожащими синими вожжами с помпонами посредине. Он осадил лошадь у самого крыльца, перед девочкой, и с пролетки не спеша сошли двое седоков.
На первом была надета черная накидка, застегнутая на золотую цепочку, которую держали в пастях две львиные головы, мягкая черная шляпа с отливом вороного пера, и сам он казался тоже черным - смуглый, с подстриженными смоляными усами. Второй легко нес на себе светлое, цветом похожее на горох, широкое ворсистое пальто, песочную шляпу с сиреневатой лентой, и лицо его, чуть рыхлое, но молодое, холеное, довольное, было словно подкрашено пастелью и тоже легко и пышно, как пальто и шляпа.
- Ну вот, - маслянистым басом сказал человек в накидке, - это он и есть.
Они закинули головы и прочитали жестяную ржавую вывеску, висевшую над крыльцом: "Ночлежный дом". Они медленно оглядели фасад двухэтажного здания, рябую от дождей штукатурку, стекла окон с нефтяным отливом, кое-где склеенные замазкой, козырек обвисшей крыши с изломанным водостоком.
- Ты что же, нянька, смотришь, - видимо строго сказал человек в пальто, - посинел младенец-то, надорвется.
- Нет, - ответила девочка, - он визгун, мой братик. Он, как мама разродилась, так он и визжит. Меня с ним на улицу выгоняют, а то он всем надоел.
- Где же твоя мама?
Человек в пальто помигал, как будто у него закололо глаза, дернул легонько девочку за косицу, спросил:
- Кто это тебе ленту подарил?
- Мама. У нее много. Она насобирает тряпок по дворам и наделает ленток разных.
- Зачем?
- А чепчики шить. Она чепчики шьет и торгует на Пешке.
- Как тебя зовут?
- Меня Аночкой.
- Кто у тебя отец, Аночка?
- Крючник на пристани. А вы - господа?
Господа переглянулись, и черный, распахивая накидку, сказал своим необычайным, маслянистым голосом:
- Славная какая девчоночка, прелесть.
Он похлопал ее кончиками пальцев по щеке.
- Где же твой отец сейчас, на пристани или дома?
- У нас дома нет. Он тут, в ночлежке. Он с похмелья.
- Пожалуй, начнем с этого, Александр, - сказал человек в накидке. Проводи нас, Аночка, к папе с мамой.
И он первый, поводя из стороны в сторону развевающейся накидкой, вошел в ночлежку, а за ним вбежала с ребенком Аночка и двинулся холеный человек в пальто.
Извозчик по-лошадиному раскосо взглянул на них, приподнял зад, вынул из-под подушки козел хвост конского волоса на короткой ручке, спрыгнул наземь, заткнул полы кафтана за пояс и принялся хозяйски обмахивать хвостом запылившиеся крылья пролетки.
2
Молодой, уже известный драматург Александр Пастухов приехал в конце зимы 1910 года на родину, в Саратов, получать наследство по смерти отца, зажился и сдружился с актером городского театра Егором Павловичем Цветухиным.
Наследства, говоря точно, не было никакого. Отец Пастухова, заметный в городе человек, жил довольно бессмысленно, тыкаясь во все направления в поисках заработка, числился то по службе эксплуатации на железной дороге, то по службе тяги, пробовал издавать дешевую газету и даже выставлял свою кандидатуру во Вторую Государственную думу по списку кадетов, но все проваливался, и только одно хорошо делал - носил дворянскую фуражку с красным околышем да все перезакладывал, вплоть до старинного кабинета, когда-то вывезенного из поместья в город. Вот ради этого кабинета и прилетел Александр Пастухов на отцовское гнездовище и поселился на старой квартире, откуда прежние годы ходил в реальное училище.
Теперь, когда нагрянула известность и одна драма Пастухова шла в Москве, другая - в Петербурге, он видел себя не тем мальчишкой, каким недавно бегал за гимназистками, но совершенно новым, ответственным, возвышенным человеком, и потому воспоминания, обступившие его на знакомых улицах, в пустых комнатах дома, где раньше кашлял и рычал пропитой октавой старик, трогали его, и он все время испытывал что-то похожее на грустную влюбленность. Он выкупил кабинет, позвал столяра, наводнившего дом горелой кислятиной клея и пронзительной вонью полукрупки, и все жил, жил, никуда не торопясь, размышляя, не явился ли он на этот свет с особым предназначением и куда поведет его звезда, кивнувшая ему с загадочной высоты, едва он начал привередливую сочинительскую жизнь.
Пастухов сошелся с Цветухиным не потому, что тяготел к актерам. Он высмотрел в Егоре Павловиче человека особой складки, хотя несомненного актера, что признавала и театральная публика, любившая сцену так, как ее любят только в провинции. Цветухин сохранил в себе жар семинариста, читавшего книги потихоньку от ректора, и привел с собою из семинарии в завоеванную театральную жизнь вечную дружбу с однокашником по имени Мефодий, который служил в театре на довольно мрачных выходных ролях. Но, в отличие от актеров, поглощенных суетою и болями театра без остатка, Цветухин отвлекался от своей славы в эмпиреи, мало уясненные им, - в изобретательство, культуру и тайны физической силы, в психологию и музыку. Это были увлечения наивные и, может быть, в конце концов именно театральные, но этот театр был совершенно не похож на службу с ее антрепренерами, газетными редакторами, самолюбиями актрис, долгами буфетчику, сонной скукой дежурного помощника пристава во втором ряду партера. Это была, пожалуй, репетиция, постоянная репетиция страшно интересной роли в каком-то будущем неизвестном спектакле. Роль созревала из музыкальных, психологически сложных находок и воплощалась в телесную силу, в мускулы, пригодные для победы над любой волей, вставшей на дороге. Цветухин часто встречал в своих фантазиях какого-то человека, поднявшего на него руку. И вот он сжимает эту руку злодея, ставит его на колени или отбрасывает на пол и проходит мимо, спокойный, величавый, с накидкой на одном плече. Что это за человек, почему он стал на дороге Цветухина, Егор Павлович не знал и не останавливался на таком вопросе, - победил, поставил врага на колени и пошел дальше, может быть изобретая какие-нибудь крылья, может быть упражняясь на скрипке.

![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)