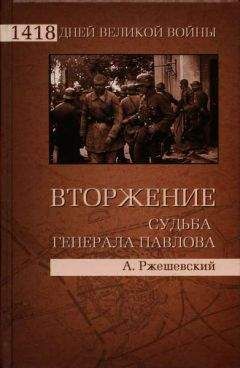Александр Ржешевский
Вторжение. Судьба генерала Павлова
— А тебя никто не спрашивает, — сказала старуха бульдогу, который шел покорно на поводке. Пес приноравливался к маленьким старушечьим шагам и переступал, как хозяйка, — мелко, неторопливо, бочком, потому что с трудом сдерживал бьющую через край энергию и мощь.
Ветер бросил им навстречу белую метельную занавесь.
— Холодно, а ты все просишься гулять, — продолжала старуха ворчливо. — Гулять бы ему да гулять… Смотри, какой снег!
Бульдог понурил голову, будто и в самом деле почувствовал себя виноватым. Выпучив глаза, печально поглядел вверх на хозяйку.
Метель бушевала с утра, будто вернулся февраль. К полудню успокоилось, только изредка сорванные с деревьев белые шапки рассыпались прозрачной кисеей. Наконец где-то вверху, в небе, отодвинулось облако, и брызнуло солнце.
Словно почуяв свою правоту, бульдог дернул за веревочку и поволок старуху к речке, на мост, под которым бурлила вода. На потрепанном настиле не хватало досок, разметанных колесами грузовиков и танкеток, проходивших здесь целыми вереницами во время зимних учений. И теперь сверху сквозь щели видно было, как вода крутилась вокруг деревянных свай, а подплывавшие льдины вгрызались, разламывались от ударов и плыли дальше. Видно, пришло время, и, несмотря на холода, половодье набирало силу.
Старуха хотела было идти через мост, но замешкалась и резко натянула поводок. Пес оглянулся. Он не посмел подумать, что мудрейшая его хозяйка в чем-либо не права, и терпеливо ждал разъяснений.
— Туда опасно, — с запозданием пояснила старуха. — Можно провалиться. Поглядим, как они проедут.
Сверху по дороге прямо к мосту, вырастая с каждой секундой, скатилась новенькая танкетка и остановилась по другую сторону реки. Аккуратные колесики прилажены надежно и не цепляются друг за дружку даже на самом быстром ходу. Грозной пустотой зияла тоненькая пушечка. Во всех линиях — лад и продуманность, словно бы лучше и смастерить нельзя, не то что рохля трактор, всю зиму ржавевший на краю поселка. Нет! Люди всегда для истребления и войны думали быстрее и ловчее, чем обо всем остальном.
Танкетка еще приблизилась, от ее броневых плит, выкрашенных зеленой краской, веяло какой-то праздничной несокрушимой мощью. Но старуха не радовалась. Мир, который она создавала всю свою жизнь, крепчал и наливался силой. И в то же время оставался чужим, больше того — враждебным, изничтожающим все, что связано было с ее делами и памятью.
Тяжесть крашеного броневого листа, как и всякое другое проявление государственного могущества, вызывало у старухи острое ревнивое чувство: если бы она руководила страной или друзья — такие, как она, — броня была бы крепка не хуже, а даже лучше.
Но все связанное с нею, с друзьями, сломлено, разметано и странно, что уцелело в душе после стольких тюрем. Но даже если бы этих горьких лет было вдвое больше, она бы не отказалась от своей судьбы. Жизнь ее была заполнена любовью по самую высокую отметку — выше не бывает, — хотя за всю жизнь ей выпало любви меньше трех лет.
Она сама не ожидала, что ее выпустят из тюрьмы и даже разрешат поселиться у двоюродной тетки. Больше от семьи никого не осталось. Странно, что посреди всех бурь в ней по-прежнему крепло чувство, что будь отец жив, он бы защитил ее ото всех невзгод. Умом она понимала: ничего не мог сделать слабый больной старик. А чувство жило. И видела она, как в стылый мартовский день возле дома кабатчиков Мызниковых отец повязывает алую ленту на броневик. И все кричат от восторга, и он кричит. Слава богу, не дожил до Октября. А если бы дожил, увидел бы, что она увидела?
В том, что ее выпустили в канун семнадцатой годовщины, заключался какой-то дьявольский смысл. Милосердию «их» она не верила. А после декабрьских событий в Ленинграде каждую ночь ждала нового ареста.
Старуха не заметила, как танкетку плотным кольцом окружили сбежавшиеся ребятишки. Дождались — с лязгом откинулся люк, из него выбрались два танкиста в комбинезонах и шлемах. Что они говорили, прикуривая друг у друга, и чему смеялись, старуха не уразумела. Но когда двинулись навстречу, прилепив взгляды к ее лицу, поняла, что за ней. Обычно ночью тихо подползала черная маруся. Теперь решили на танке.
Она не удивилась. Только натянула собачий поводок, и внутри застывшего скрюченного тела забило, залихорадило. В глазах, вместо одного солнца, вспыхнули сразу тысячи, и столько же минувших дней и ночей в один миг промчались перед ней.
Воспоминания были самой крепкой опорой. То, что отцу казалось катастрофой, для нее было огромным всеохватным счастьем. Ну и что теперь, когда его нет? Разве она не права? Конечно, как не удивляться, не охать окружающим, если она, дочь известного ювелира, владельца богатых особняков, сбежала по горячей любви с бездомным учителем словесности, который по характеру своему и по внешности должен был не азбуку разбирать с малышами в приходской школе, а странствовать по рыцарским турнирам на коне и со щитом.
«Эх, Мария! — говорил он, сжимая ручищами ее плечи. — То ли еще будет! Хочу бросить все и землю поглядеть. Махнем на край света! Со мной не пропадешь». Ей-то, молоденькой, и тяжко, и боязно, а голова сама склоняется в согласии и восторге. Губы шепчут: «Да! Согласна! Пусть… на край…»
Старуха подобралась мысленно, выпрямилась бесстрашно и бросила на подходивших танкистов колючий взгляд. Она повидала гэпэушников в разном обличье и беспечным видом подходивших военных не могла обмануться.
Но те неожиданно остановились, поговорили о чем-то без улыбок и воротились назад. В старухиных глазах вдруг прояснилось, и она узнала одного из военных, коренастого, с обветренным, точно вырубленным грубым лицом и мохнатыми бровями. Уроженец бедной костромской деревни, он выбился в большие командиры, и приезд его стал событием для областного начальства. Фамилия проста, как воробьиное чириканье. Несмотря на вольнодумство, она с девической поры внутренне отгораживалась от простого люда. Иванов или Петров? Ах, да! Павлов!
Ревностно оспаривая решения новой власти, она, тем не менее, шестым чувством одобрила этот выбор. Не потому, что коренастый танкист показался ей чем-то симпатичен. Главным было предчувствие. Мысленно она продолжала руководить, действовала. Необходимую информацию ухитрялась получать отовсюду, даже в тюрьме.
Коренастый танкист уже наверняка не вспоминал свое босоногое детство и пастушечий кнут. Пробежал за несколько лет путь, назначенный многим поколениям. В этом его сила, но в этом же страшный провал. Сейчас от его фигуры веяло властью. Но редко кто из таких скорохватов умеет править по совести, по уму. Оттого и нет ума, что ставят друг дружку не по уму, а по иным качествам. Сладостная ноша власти для многих оказалась непосильной. Но уж верно, по своей воле никто ее не бросил.
В коренастом танкисте чудилась надежность. Можно было заранее представить судьбу: такой не предаст. И не промахнется. Рассчитает все с выгодой для Отечества. Не только для себя… В Гражданской участвовал. Но в расправах не замечен. Не то что Васильев… Кстати, тот высокий с ним — не Васильев?
Мозг пронзила молния. В памяти, наоборот, сгустилась тьма. Не понять! По росту вроде бы похож. Стольких богатырей согнуло и пожгло, что каждый на примете. А Васильев был особенный. Светловолосый статный красавец так и остался ненавистен для нее и самых близких людей. Правда, этот, рядом с Павловым, в шлеме. Но не так, не так пригож… Может, глаза подводят? Сколько, поди, годов пролетело! И каждый за три. А то и за пять…
Неужели он?
Хлопнул железный люк. Настала тишина, взломанная затем ревом мотора, дрожанием земли. Чья-то красная шапочка заметалась перед броней. И вихрастый паренек — из будущих храбрецов — вытянул девчушку на обочину. Неторопливо переваливаясь, танкетка вползла на мост, осторожно ощупывая гусеницами каждый гвоздь и зависая над провалами. От середины пролета рванула вперед, выдрав еще несколько досок. И — залопотала гусеницами вдоль дороги. Минуты не прошло — исчезла за поворотом. Окружающий воздух вновь очистился от копоти и страха.
Старуха решила возвращаться и опять резко натянула поводок. Пес оглянулся, точно мог сказать: «Зачем останавливаться? Все правильно. Вот он свесился над перилами. Сейчас можно подойти».
И тотчас, будто согласившись, старуха заковыляла к реке.
После отъезда танкистов веселая гурьба мальчишек закипела на мосту. Потом рассыпалась по берегу. Река разливалась все шире, вода поднималась, и мальчишеским восторгам не было предела. Это очень хорошо понятно было даже охлажденной старушечьей душе.
Один из мальчиков пронзительно напоминал старухе сына. Встречая его, она всякий раз вздрагивала. Тот, погибший, и этот, живой, смотрели на нее одинаковыми глазами. Даже имена совпадали.