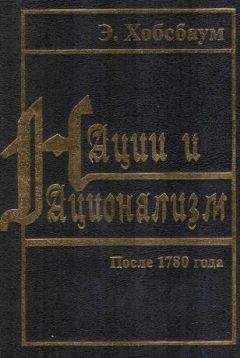И в этой всеобщей позиции не было ничего шовинистического. Она не предполагала какой-либо враждебности к языкам и культуре этих «коллективных жертв закона прогресса» (как их могли бы тогда назвать). Напротив, там, где превосходство основной национальности и государственного языка сомнению не подвергалось, преобладающая нация могла даже заботливо лелеять и поощрять внутри государства диалекты и мелкие языки, равно как фольклорные и исторические традиции более мелких общностей, входивших в его состав, — хотя бы в качестве свидетельства разнообразия цветов на его многонациональной палитре. Более того, небольшие народности и даже нации-государства, видевшие в своем присоединении к более крупным нациям нечто положительное, — или, если угодно, принимавшие законы прогресса, — вовсе не усматривали непримиримых различий между микро- и макрокультурой и даже соглашались избавиться от того, что не поддавалось адаптации к требованиям современности. Именно шотландцы, а не англичане, изобрели после Унии 1707 г. понятие «северного британца».[80] А в Уэльсе XIXвека именно носители и поборники валлийского языка сомневались в том, что их собственный язык — столь могущественное и яркое средство выражения и орган религии и поэзии — способен служить универсальным языком культуры XIX века; иначе говоря, они принимали необходимость и выгоды двуязычия.[81] Разумеется, они были в курсе перспектив общебританской карьеры, которые открывались для наллийцев, владеющих английским языком, но это нисколько не ослабляло их эмоциональных связей с древней традицией. Подобная связь очевидна даже у тех, кто смирился с неизбежным исчезновением валлийского, как например, преп. Гриффите из Dissenting College и Брекноке, который просил лишь об одном — чтобы люди не вторгались в естественный ход вещей: «Пусть же его [валлийского языка] кончина будет мирной, благородной и достойной. Как бы ни были мы привязаны к этому языку, немногие из нас пожелают отсрочить его легкую и безболезненную смерть. Однако нет такой жертвы, какую сочли бы мы чрезмерной ради того, чтобы предотвратить его убийство».[82]
Сорок лет спустя другой представитель малой национальности, социалистический теоретик Карл Каутский (чех по происхождению), рассуждал столь же покорным, но отнюдь не равнодушным тоном: «Национальные языки будут все более и более ограничиваться в своем употреблении домашним кругом, и даже там в них будут видеть полученную в наследство от предков старую мебель — нечто такое, к чему относятся с почтением, пусть даже оно и не приносит особой практической пользы».[83]Но это были проблемы небольших национальностей, чье самостоятельное будущее представлялось сомнительным. Что же касается англичан, то они, гордясь доморощенной «экзотикой» Британских островов, едва ли всерьез задумывались о тревогах шотландцев или валлийцев. И действительно, театральные «ирландцы» вскоре обнаружили: те, кто благоволит мелким национальностям, не оспаривающим главенство крупной, делают это тем охотнее, чем менее эти национальности похожи в своем поведении на англичан, чем грубее и откровеннее изображают они свой ирландский или шотландский «характер». Точно так же и пангерманские националисты поощряли литературное творчество на нижненемецком и фризском диалектах, поскольку их роль свелась к невинной функции придатков, а не соперников верхненемецкого; а итальянские националисты гордились произведениями Белли и Гольдони и песнями на неаполитанском диалекте. И франкофонная Бельгия не возражала против того, что некоторые бельгийцы говорят и пишут по-фламандски. Как раз Flamingants[84] и сопротивлялись влиянию французского. Иногда, правда, бывали случаи, когда основная нация, или Staatsvolk, активно пыталась вытеснить мелкие языки и культуры, — но вплоть до конца XIX века за пределами Франции подобное происходило нечасто.
Таким образом, некоторым народам или национальностям никогда не суждено было превратиться в полноценные нации. Другие уже достигли или должны были достигнуть статуса полноправной нации. Но какие из них имели будущее, а какие — нет? Споры о характерных признаках национальности — территориальных, лингвистических, этнических — не слишком способствовали решению вопроса. «Принцип порога» оказывался, естественно, более полезным, но даже он, как мы убедились, не являлся решающим: ведь существовали совершенно бесспорные «нации» весьма скромных размеров, не говоря уже о национальных движениях вроде ирландского, чьи возможности образовать жизнеспособное национальное государство оценивались по-разному. Прямой смысл реиановского вопроса о Ганновере и Великом герцогстве Пармском заключался в сопоставлении их не с какими угодно нациями, но с нациями-государствами столь же скромных размеров — Нидерландами и Швейцарией. В дальнейшем мы увидим, что появление серьезных национальных движений, опирающихся на массовую поддержку, потребует существенного пересмотра прежних подходов — однако в эпоху классического либерализма лишь немногие из этих движений (за пределами Османской империи) добивались признания в качестве независимых государств как чего-то отличного от разнообразных форм автономии. Ирландский случай и в этом смысле стал — как обычно — аномалией, по крайней мере, с появлением «фениев», добивавшихся создания Ирландской республики, которая не могла не быть независимой от Британии.
На практике же существовало только три критерия, позволявших с уверенностью причислять данный народ к «нациям», — при том непременном условии, что он достаточно велик, чтобы преодолеть «порог». Первый критерий — историческая связь народа с современным государством или с государством, имевшим довольно продолжительное и недавнее существование в прошлом. А потому существование английского или французского народов-наций, (велико) русского или польского народов не вызывало больших споров, как не было за пределами Испании сомнений относительно испанской нации, обладающей четкими национальными признаками.[85] Ибо, если учесть отождествление нации с государством, то для иностранцев было вполне естественным предполагать, что единственным народом в стране является самый крупный, — привычка, до сих пор раздражающая шотландцев.
Вторым критерием было существование давно и прочно утвердившейся культурной элиты, обладающей письменным национальным языком — литературным и административным. Именно это было основой притязаний на статус нации со стороны немцев и итальянцев, хотя указанные народы не имели единого государства, с которым могли бы себя отождествить. А потому в обоих случаях национальная идентификация была по своему характеру преимущественно лингвистической, пусть даже национальный язык использовало в повседневном обиходе лишь незначительное меньшинство (для Италии на момент объединения его определяли в 2,5%),[86] тогда как остальные говорили на различных диалектах и часто не понимали друг друга.[87]
Третьим критерием — к несчастью, приходится сказать и об этом — являлась уже доказанная на практике способность к завоеваниям. Фридрих Лист прекрасно понимал: быть имперским народом — вот что лучше всего остального заставляет население осознать свое коллективное единство как таковое. Кроме того, завоевание представляло собой для XIX века доказательство успешной эволюции данного социального вида. очевидными внутри самой Испании, а тем более — в Испанской империи, в которую Арагон не входил.
Других кандидатов на статус нации не исключали априори — но и никаких априорных аргументов в их пользу не существовало. Самым надежным положением для них была, вероятно, принадлежность к такому политическому образованию, которое по стандартам либерализма XIX века причисляли к отжившим, устаревшим и обреченным на смерть законами исторического прогресса. Самым бесспорным эволюционным «ископаемым» такого рода была Османская империя — но также и империя Габсбургов, как это становилось все более очевидным.
Таковы были представления о нации и национальном государстве идеологов эпохи торжествующего буржуазного либерализма (примерно с 1830 до 1880 г.). В либеральную идеологию они входили по двум причинам. Во-первых, потому, что становление наций представляло собой, несомненно, особый этап эволюции человечества, его прогрессивного развития от малых групп к более крупным, от семьи и племени — к области, нации и в конечном счете к грядущему объединенному миру, в котором, если сослаться на довольно поверхностное, а потому типичное мнение Дж. Л. Дикинсона, «национальные барьеры, характерные для младенческого возраста человечества, растают и совершенно исчезнут под яркими лучами науки и искусства».[88]