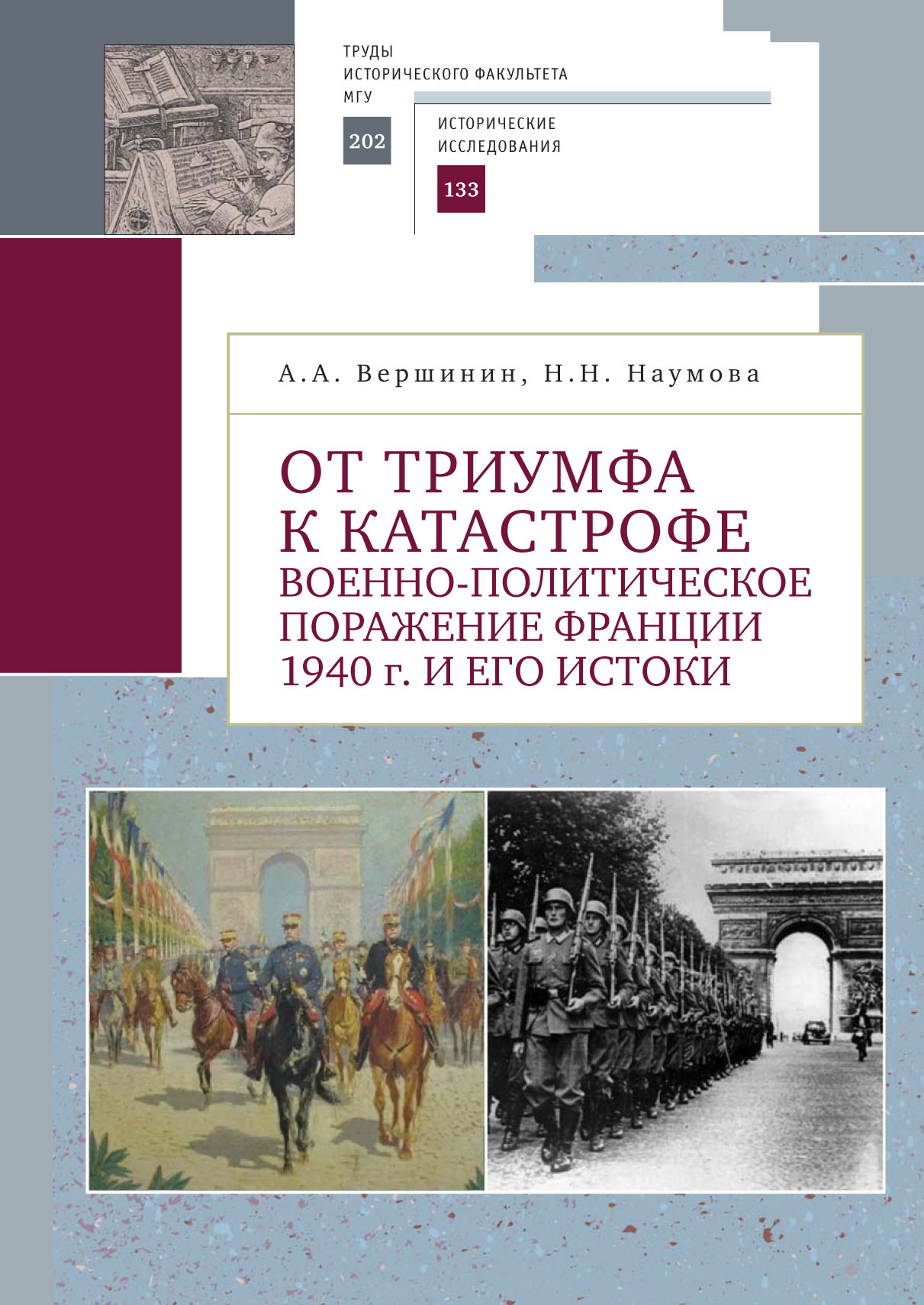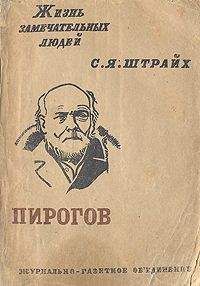11 ноября сценами для его демонстрации становились национальный мемориал в Дуомоне, сооруженный в память о погибших в Верденском сражении, и 36 000 мест памяти павших, которые появились в самых отдаленных городах и деревнях. Еще одним столпом массового пацифизма являлись женские организации. Около 600 000 французских женщин остались вдовами войны, многие потеряли отцов, братьев, сыновей. Именно они стали голосом «страны единственных сыновей» [104], для которой потеря каждого человека на фронте являлась частью большой национальной трагедии. В 1921 г. была основана Лига женщин против войны, установившая тесные связи с пацифистскими группами внутри международного женского движения [105].
Мемориал в Дуомоне, современное состояние.
Источник: Paul Arps / Wikimedia Commons
С пацифистских позиций выступали многочисленные крестьянские ассоциации, обладавшие серьезным весом в стране, где половина населения до сих пор проживала в сельской местности и откуда на фронт ушли миллионы призывников. Около половины преподавателей школ и лицеев, отправившихся на войну, погибли, что во многом обусловило яркую антивоенную позицию влиятельного профсоюза учителей. Пацифистские идеи активно внедрялись в школьное образование. В их основе лежала концепция «патриотического пацифизма». Антивоенные идеи должны были вытеснить традиционный для Франции республиканский милитаризм и лечь в основу новой политической культуры страны. Шло «моральное разоружение» французского общества [106]. Маршал Петэн открыто обличал «антипатриотическое влияние» преподавателей на умы молодежи [107]. Против войны резко выступало мощное рабочее движение во главе с социалистической (СФИО [108]) и коммунистической (ФКП) партиями. Франция не хотела больше воевать.
Р. Арон так описывает настроения своего поколения, вошедшего в активную жизнь в 1920-е гг.: «Какая еще война была такой длительной, жестокой и бесплодной, как война 1914–1918 годов? Страсти, придавшие ей легитимность, были чужды и порой почти непонятны двадцатилетним юношам в 1925 году. Большинство из нас пережило эту войну издалека, не страдая от нее. Те же, кто воевал сам или осиротел в этой войне, ненавидели ее тем сильнее, что считали выгоды победы несоизмеримыми с принесенными жертвами. Возмущение выливалось в антимилитаризм. Этот антимилитаризм содействовал в известном смысле деморализации армии» [109].
Эту же мысль выражал де Голль. «В духе нашего времени, – писал он, – есть, кажется, все для того, чтобы терзать совесть профессионалов [военных – авт.]. Повсюду распространяются некие мистические настроения: войну не только проклинают, ее склонны считать устаревшей, и всем хочется чтобы так было на самом деле. О битвах не хотят вспоминать ничего, кроме крови, слез и могил, забывая о величии, которым народу утешаются в своей скорби. Никому нет дела до Истории, черты которой иные искажают для того, чтобы вычеркнуть из нее войну. На военное сословие нападают в самой его сердцевине» [110]. В подобной атмосфере те силы, которые призвали бы страну к оружию ради защиты прав, полученных в Версале в 1919 г., рисковали полной политической маргинализацией. Именно с этим был связан мощный дрейф почти всех французских партий в сторону пацифизма.
В одной точке совпали два процесса: рост антивоенных настроений в обществе и осознание политиками невозможности обеспечить безопасность страны силовыми методами. Знаковым событием здесь стал Рурский кризис, который весной 1924 г. привел к власти левоцентристскую коалицию «Картеля левых» и в то же время показал, что Франции необходима новая германская политика. В декларации своего правительства, представленной парламенту 17 июня, новый председатель Совета министров Э. Эррио объявил о пересмотре курса в отношении Веймарской республики: Франция больше не будет прибегать к силовому давлению и практике «взятия залогов»; ее требования ограничатся лишь репарационным вопросом, после его урегулирования Веймарская республика может быть принята в Лигу Наций; Лиге также предстоит сыграть основную роль в контроле над германскими вооружениями; свою внешнюю политику Париж собирается реализовывать через «международные институты информации, сотрудничества и арбитража» [111]. Сформулированный Эррио лозунг его внешней политики – «арбитраж, безопасность, разоружение» («триада Эррио») – замышлялся как основа нового международного порядка, в рамках которого безопасность покоилась не на силе, а на общей приверженности идеалу мира.
От этих же идей во многом отталкивался А. Бриан, которому в 1925 г. в качестве министра иностранных дел выпало вести трудные переговоры с Германией и Великобританией по вопросу обеспечения европейской безопасности. Этот ветеран французской политики возглавлял правительство в разгар Первой мировой войны в 1915–1917 гг. и уже тогда задумывался о будущем европейской безопасности. В начале 1917 г. его кабинет договаривался с Великобританией и Россией о признании особых прав Франции на Рейнскую область [112]. В тот момент Бриан выступал сторонником традиционной модели сдерживания и поддержания баланса сил. Он руководствовался ей и в 1921 г., когда вновь сформировал правительство. Тогда он без колебаний применил против Берлина силу и к удовольствию Фоша приказал занять ряд городов на правом берегу Рейна после того, как Германия отказалась принять решение союзников по режиму взимания репараций [113].
Однако Бриан не зря пользовался репутацией одного из наиболее гибких политиков своего времени. Одни называли это беспринципностью, другие – даром предвидения. Так или иначе, долгая карьера французского министра знала не один резкий поворот, когда он полностью пересматривал те взгляды, которыми еще совсем недавно руководствовался. Как отмечал Л. Д. Троцкий, до революции 1917 г. живший во Франции и внимательно следившей за политической жизнь страны, «Бриан изучение вопроса заменял чутьем» [114]. Пережив в молодости увлечение социализмом, в зрелые годы он отошел от идеологических догм, став политиком, который интуитивно чувствовал реальность, улавливая скрытые течения общественной жизни и сообразуясь с ними. Именно об этом в своем характерном стиле говорил Клемансо, когда констатировал, что «преимущество [Бриана – авт.] состоит в том, что он не знает, что делает» [115].
В начале 1920-х гг. Бриан полностью пересмотрел свои подходы к решению проблемы безопасности. Заняв в 1925 г. пост министра иностранных дел, он ясно понимал, что поле для дипломатического маневра, имевшееся у него в распоряжении, максимально сузилось. Союзники по Антанте отказались подтвердить гарантии безопасности, данные Франции на мирной конференции. Собственными силами для того, чтобы давать немцам постоянно «чувствовать твердую руку у себя на воротнике» [116], Париж не располагал. Чтобы немцы в будущем вновь не стали врагами, с ними предстояло договориться. Объясняя смысл своего курса на примирение с Германией, французский министр открыто признавал: «Моя политика – это наша рождаемость» [117]. При этом, он осознавал, что в середине 1920-х гг. никакой другой курс не нашел бы поддержки общественного мнения. «Стихийный пацифизм выживших в войне подпитывался той надеждой, которую воплощала фигура Бриана» [118], – отмечает французский историк Ж.-Л. Кремьё-Брийяк.
Аристид Бриан.
Источник: Wikimedia Commons
Конференция в Локарно, проходившая 5-16 октября 1925 г., явилась формальной фиксацией неудачи той политики в