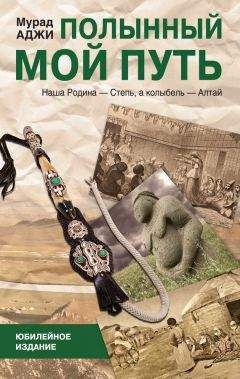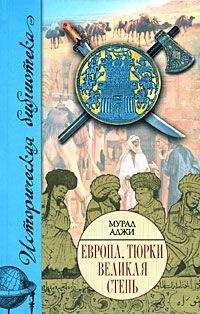Мы ехали в талышскую деревню Сепаради к Мамедову Абдулле Амрах-оглы, девяностолетнему аксакалу. Его дом недалеко, километров за тридцать от Ленкорани.
Шоссе удивило оживленностью. Машины шли одна за другой, а вдоль дороги – дома, дома, участки, поля. И всюду люди, люди. Кончалась одна деревня, а за полоской поля начиналась другая. Талышские деревни и очень похожи, и очень непохожи. Одинаковых домов я не видел, а объехал почти весь район. Огромные, чистые, с просторной верандой, с едва ли не обязательным парником-садом. Стены заботливо оформлены галечником или бутовым камнем. Но многие дома стояли недостроенными.
– Почему? – переспросил мой внимательный сопровождающий Вагиф. – Трудно у нас с пиломатериалами. Очень дорогие, и нет их. Люди сами, семьями строят дома, камня хватает. Стены построили, а дальше… Доски не купишь.
Ленкоранский район – сплошная народная стройка. Это не удивительно, в талышских семьях, как правило, по пять– восемь – десять детей. Бо-ольшой дом нужен.
Помню, проезжали деревню, увидели одноэтажную школу, на маленьком ее дворе – ребят, как скворцов в стае. Все смуглые, неугомонные, все разом переговариваются, все куда-то спешат. Потом я узнал, что классы переуплотнены. Большие-большие школы требуются едва ли не каждой деревне.
Центр талышской деревни, конечно, чайхана, около нее полно мужчин. В шапках, в пальто они стоят, разговаривают, думают. Каждый уважающий себя мужчина в руке крутит четки. Женщин среди них не увидишь, женщины в поле, где они казались цветами среди ровных рядков зазеленевших всходов капусты. Удел восточной женщины – работа, дом. Так было всегда, так есть сейчас. И от обычаев предков никто не собирается отказываться.
Я ни разу не видел в поле трактора, хотя шли весенние полевые работы, – только бригады по двадцать – тридцать человек, в цветных одеждах и платках, прикрывающих лицо. Потом мне объяснили, почему так. Оказывается, в талышских деревнях найти работу очень трудно, ее просто нет. Поэтому – ручной труд. Конечно, есть трактора в совхозах, и другая техника есть, но я ее не видел.
Земли мало. Людей много. Очень много людей! В деревне Сепаради, например, куда мы приехали, живет пять тысяч человек, а в совхозе работает немногим больше тысячи, хотя нужно бы меньше. И сколько таких переполненных деревень в Талышском крае? Сколько таких переуплотненных совхозов?
Есть и так называемые сезонные безработные. Цифра внушительная. Хочешь не хочешь, а подавайся в чужие края либо годами жди работу. Скромная чайная фабрика на селе – это вершина инженерной мысли.
…Дом Абдуллы Амрах-оглы стоял в стороне от дороги, около старой мечети. Еще недавно она использовалась под склад. Талыши исповедуют ислам, в основном шиитскую его ветвь, которую долгое время притесняли, отчасти поэтому стали мечети складами. Но ситуация меняется. Сейчас мечети восстанавливают либо строят заново. И строят их люди очень охотно.
Абдулла Амрах-оглы сидел за столом в саду, накинув на плечи теплое пальто, мы неторопливо пили чай. Почтенный старец не утомлял меня воспоминаниями: он их забыл. Отвечал односложно. Поговорить с ним не удалось. Неразговорчивый. Зато он охотно показал свои изделия из глины. В них весь человек – сосредоточенный, практичный и очень работящий.
Конечно, то не музейные работы, да и делал он их не для музея. Низкие кастрюли с широкими тяжелыми крышками. Крышки при надобности могут стать мисками. Пузатый чайник, хоть и простенький на вид, но зато отлично держащий тепло. Даже неказистый пастуший рожок… Все эти вещи, грубоватые, деревенские, имели тонкий орнамент: будто травинки случайно переплелись в глине, будто листочки нечаянно приклеились к ней.
– Талыш плохо. Умирал обычай, умирал люди. Кто учить? Нельзя, – сказал напоследок старик, собрав весь запас русских слов.
Потом мы были в другой деревне у Махмудовой Агабаджи Абдулла-кызы, ей 118 лет, и она забыла свое прошлое. Помнит лишь, как трудно и бедно жили. И чувствовалось, это она заученно повторяет раз за разом. Говорит на талышском, знает азербайджанские и русские слова. И ответ на любой мой вопрос о быте, о песнях, о традициях талышей начинался и заканчивался примерно одинаково.
Мало что дали встречи с другими старейшинами.
И все-таки кое-что в памяти талышей о себе, к счастью, осталось. У молодежи.
С утра и до шести часов вечера мы работали с Вагифом, потом я шел в гостиницу. Вечером второго дня кто-то постучал в дверь, открываю, стоит высокий молодой человек. В пальто, без шапки, на взволнованном лице – красные пятна.
– Вы корреспондент из Москвы? – слегка извиняющимся голосом произнес он. – Мы хотели бы с вами поговорить.
– Кто – «вы»? Впрочем, проходите.
Так я познакомился с молодыми людьми, которые не плакали, как вся страна, в марте 1953 года, но которые слышали об этом плаче от своих родителей, а о других – более ранних слезах – от бабушек и дедушек. Слышали! И им по наследству передалась боязнь. Поэтому-то они попросили не называть их имена: «Вы уедете, а нам оставаться».
Словом, меня выкрали из гостиницы, чему я не противился, и повезли в какую-то талышскую деревню. Три вечера продолжались «тайные вечери»: я выходил из гостиницы, проходил квартал, сворачивал в темный переулок, к семи часам подъезжала машина. И мы уезжали. В кромешной тьме добирались до места.
Перед входом, как положено, снимали обувь и проходили в дом. Стоило войти, женщины выходили, неслышно уводя детей.
Убранство комнат в талышских домах очень похожее. Поражали чистота, минимум мебели и цветы. Цветы в каждой комнате. Ниши над окнами служили полкой для посуды, расписные тарелки – украшениями. Постели – циновки, свернутые в рулон, лежали у стен. Поверх циновок – гора подушек, одеял, укрытая ковром. Все вселяло в комнату простор, и если бы не стол со стульями, то можно было бы сказать – пустоту. Телевизор, печурки – не в счет. Фотографии на стенах – тоже.
Талыш умеет принять гостя. Горячий чай всегда ждет. Потом на стол откуда-то выплывают плов, дичь, маринованные овощи. Все вкусное… Пока мужчины ужинают, никто из домашних не смеет войти в комнату. Лишь изредка скрипнет дверь, и в щелке завиднеется зоркий женский глаз, следящий за столом, а пониже еще один, детский, любопытный глаз.
Три вечера мы разговаривали, я рассказывал, и мне рассказывали, можно было попросить что-либо показать, и если эта вещь имелась в деревне, то ее приносили. Даже люльку принесли. О ней стоит сказать подробнее.
Не знаю, изобретение ли талышей эта люлька или только заимствование. Но она – не обыкновенная кроватка для младенца, а особенная. Ребенок в ней чувствует себя очень уютно. Головка его лежит на жесткой подушечке, поэтому у талышей затылок плоский – и в этом их еще одно внешнее отличие. Люлька говорит о том, что талыши не вели кочевой образ жизни, только оседлый – для кочевья она слишком неудобна. И еще одна, практическая деталь: в люльке есть «приспособление» для мальчиков и отдельно для девочек, благодаря чему ребенок всегда сухой и чистый.
Из мелких, порой едва заметных отличий и складываются особенности той или иной культуры. Талыши, например, как и некоторые другие народы Востока, сберегли доисламское верование – зороастризм. О чем говорит их особая любовь посидеть у костра и ночь напролет любоваться огнем, его притягательной магией. Они, мусульмане, по-прежнему поклоняются и пирам. Конечно, не все талыши, но многие. В их сознании прежние вероисповедания как бы слились в одну единую, сегодняшнюю религию.
Когда закрывали мечети, «выручали» пиры.
Пир – это не застолье, это укромное святое место. Одинокое дерево, камень, даже могила. Здесь загадывают сокровенное желание, здесь освобождают душу от грехов, сюда приносят жертвы… да мало ли что решается в священной тишине пира. Если назревает какое-то важное дело, идут к пиру и привязывают цветную нитку. Теперь дело наверняка решится хорошо. Правда, потом надо не забыть отвязать свою нитку, она еще пригодится. Если кто-то согрешил, берет камень и несет его к пиру. Чем больше грех, тем крупнее камень. Около пиров много камней. Разных. И приносят их издалека. Каждый судья своим поступкам, каждый сам сбрасывает камень с души.
Есть пиры местного масштаба – для будничных забот. Есть – на всю округу. А есть – знаменитые места паломничества, такие как могила Ноя в Нахичевани.
Вот смотрю – к пиру подошел мальчик лет десяти с петухом под мышкой, деловито вытащил нож – ж-жик. Петух обезглавлен. Мальчик, по-взрослому посапывая, подождал, пока стечет кровь, обошел вокруг дерева и хотел уже уйти, волоча слабеющего петуха за лапы, но… Я не удержался и слишком громко спросил:
– Что он делает?
Мальчуган с недоумением – если не с презрением – посмотрел в мою сторону: он догадался, что эти громкие слова о нем, и, не останавливаясь, быстро-быстро защебетал в ответ по-талышски.