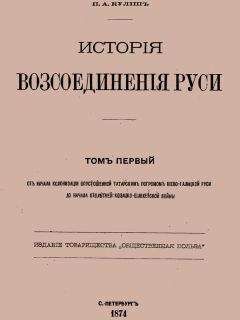Затем в докладе думного дьяка было изложено, что государь ради веры и церкви, предлагал свою готовность простить оскорбление царской чести своей, если только Речь Посполитая возобновит Зборовский договор с казаками, перестанет гнать православную веру и уничтожит унию; что король и паны рады отказали в этом, и начали снова воевать с казаками; что Турецкий султан зовет казаков к себе в подданство, но что казаки предпочитают быть под высокой рукою Московского самодержца.
От Земской Думы требовалось обсуждение и решение вопроса: принимать ли государю казаков под свою высокую руку? Это была одна формальность. Орган царского правительства, бояре, выражая свое руководящее, лучше сказать обязательное для прочих сословий мнение, не взяли на себя даже труда взойти к началу вопроса о русском воссоединении, который был поставлен весьма выразительно Иоанном III. К вопросу историческому отнеслись они канцелярски, на основании казацкого донесения о гонении православия в Польше и, без дальнейших справок, приписали это гонение неповинному в нем, хоть и готовому к нему, Яну Казимиру, брату оплаканного казаками короля и их избраннику. По голословному казацкому обвинению, Ян Казимир, вместо того, чтобы, на основании своей присяги, оберегать и защищать все вероисповедания, отличные от католического, восстал на православных христиан греческого закона, разорил многие Божии церкви, а некоторые обратил в унитские. Отсюда, сообразно понятиям своей публики, бояре вывели заключение, что гетман Хмельницкий и все Запорожское войско сделались людьми вольными; «а потому» (говорили бояре), «чтоб не допустить их в подданство Турецкому султану, или Крымскому хану, следует гетмана, со всем войском и со всеми городами и землями, принять под высокую государеву руку».
Во времена оны, вопросом о присоединении Малой России к России Великой руководила у нас церковная иерархия, и вела за собой к русскому единству всех поборников православия, во главе которых естественно стояли создатели, благодетели и хранители Божиих церквей, то есть дворянство, мещанство и духовенство.
Обработанная Петром Могилою в духе единения с Польшею, церковная иерархия в казацкой просьбе теперь не участвовала, и даже, как увидим, уклонялась, под разными предлогами, от присяги на подданство царю всея Русии.
Как обсуждался этот вопрос предварительно в боярской думе, нам неизвестно. Русскому народу было показано решение вопроса только со стороны веры, в виду предстоявшей войны с Польским королем. Все выборные русской земли, земли царской, нашли решение справедливым, и приговорили, вместе с боярами, что государь должен объявить Польше войну. Дело в том, что выборные, вернувшись в свои места, распубликовали великое предприятие, и сделали его предприятием всенародным.
Война с Польшею под знаменем церкви и веры, война, вытекавшая из событий, памятных русскому сердцу, хотя и не обнятых еще русским умом, пришлась по душе всем сословиям и состояниям. Царская земля, каковы бы ни были органы её чувства и мышления, сознавала важность момента. Томительное чувство недавнего еще бессилия, к которому привел ее иезуитский подкоп под русское престолонаследие, разразилось теперь общею готовностью жертвовать достоянием и жизнью за всенародное дело. В этой готовности вовсе не было того добровольного холопства, которым русские враги объясняют полное согласие народа с его верховною властью. Сравнительно с польскими сеймами, московская Земская Дума представляла сцену скромную, тихую, антилиберальную; но невозможное для Польши единодушие делало эту сцену величественною и по движению сердец, и по предчувствию грядущего величия России. Там в кажущейся свободе выражалось польское бессилие; здесь в кажущейся неволе пребывала русская сила. Там обнаруживалась дряхлость шляхетского равенства; здесь чувствовалась юность общего соподчинения. Там течение политической жизни видимо приходило к своему концу; здесь оно только начиналось, и широким началом пророчило развитие беспредельное. Но самую разительную противоположность между той и другой сценами составляли религиозные знаменатели обеих. В польском правительствующем собрании высшие представители церкви ораторствовали в качестве государственных сановников. В московской Земской Думе, патриарх, окруженный церковным синклитом, возвысил голос только для того, чтобы благословить своего царя и всю его державу на подвиг освобождения древней русской земли от иноземной власти, обещая просить Бога, Пресвятую Богородицу и всех Святых о помощи и одолении.
Так было санкционировано в Москве расторжение хаотически сложившейся польско-русской республики, отделение русского элемента от польского и привлечение к русскому центру новых сил, которые из разрушительных и чужеядных превратились в строительные и производительные.
В критический момент, когда казаки бежали домой, гонимые страхом союза европейцев с азиатцами на их погибель, к ним готовились ехать от царя полномочные послы: боярин Бутурлин, окольничий Алферьев и думный дьяк Лопухин с товарищами, для принятия Малороссии в московское подданство.
Они достигли Переяслава, казацкой столицы, 31 декабря. Слабый лед на Днепре не позволил Хмельницкому поспешить навстречу к ним. Вернее сказать, Хмельницкий не столковался еще со своими сообщниками касательно того, — что москвичи, не стесняясь называли вечным холопством. Надобно помнить, что кадрами запорожских бунтовщиков и воротилами казацких каверз были шляхетные баниты. Москва была им не по вкусу своею строгою соподчиненностью, а московские порядки казались им нестерпимее турецких. Неприязненный, презрительный и враждебно предубежденный взгляд на Москву был делом систематической пропаганды воспитателей Польши, и в этом то взгляде коренились казацкие предательства от Хмельницкого и Выговского до Мазепы и Орлика. Москве предстояла рискованная борьба с Польшей, у которой оставалось еще много людей, способных и к войне, и к политической интриге, большею частью полонизованных русичей, но риск этой борьбы, как показали события, заключался всего больше в предательском характере казачества, который москалям был известен еще в XVI веке.
Полномочных царских послов принимали в Переяславе переяславский полковник Павел Тетеря, будущий гетман царских отступников и основатель иезуитского коллегиума в Варшаве. Не мог он относиться к делу русского воссоединения сочувственно, и смотрел на него, как на неизбежное, но временное зло, — смотрел так, как в 1632 году папский нунций на уступку православникам нескольких униатских хлебов духовных. Казацким воротилам сделалось тогда холодно в Малороссии, — нагнал им холоду крымский добродий, — и они ползли к московскому царю за пазуху отогреваться.
Спустя немного времени прибыл в Переяслав казацкий батько и в день, назначенный для присяги на московское подданство (8 января 1654 года), держал с главною старшиною своею тайную раду. Из этой тайной рады будущие крамольники вышли к собравшимся в Переяславе казакам. Хмельницкий произнес речь, в которой волей и неволей должен взять ноту малорусского большинства, переставшего бояться его соумышленников.
«Нельзя, видно, жить нам более без царя», говорил он и назвал четверых государей, которые готовы властвовать над Малороссией: турецкого султана, татарского хана, польского короля и московского царя, «которого» (продолжал он) «уже шесть лет мы беспрестанно умоляем быть нашим государем и обладателем». (Вместо шесть лет, Хмельницкий должен был бы сказать тридцать лет, когда бы церковная иерархия не изменила русскому чувству). «Сей-то великий царь христианский» (сказал он в заключение), «сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в нашей Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений и склонил теперь к нам свое милостивое царское сердце».
Речь, очевидно, была продиктована ему царскими послами, которые даже хвалить своего государя не дозволяли иначе, как в духе московского верноподданства.
«Возлюбим же его с усердием»! (воскликнул пассивный оратор). «Кроме его царской руки, мы не найдем благоотишнейшего пристанища. Кто нас не захочет послушать, тот пусть идет, куда хочет: вольная дорога!»
Казацкая масса, состоявшая из московских доброжелателей и врагов, отвечала с единодушием разбойников, спасающихся от кары: «Волим под царя Восточного!»
Малорусские летописи и казацкие историки присочинили, будто бы вслед затем «начали читать приготовленные условия, на которых Украина должна соединиться с Московиею». Достоверность этого факта заявил перед ученым светом Костомаров даже и в четвертом издании своей трехтомной исторической монографии «Богдан Хмельницкий». Но ни условий, ни так называемого Переяславского договора с царскими уполномоченными не было и, по духу московского самодержавия, быть не могло. Казаки целые шесть лет беспрестанно умоляли Восточного царя принять их в подданство, и великий государь наконец сжалился — и то не над ними, а над «нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси». Эти слова Хмельницкого, кому бы они собственно ни принадлежали, сами по себе делают условия и договор с просителями бессмыслицею. Но и произнесенная при этом речь Бутурлина, сочиненная ему царскою думою, не упоминает ни о каких обязательствах со стороны царя. Бутурлин распространялся о бедствиях Малороссии, о гонении за веру, о многократных казацких посольствах, подвинувших великого государя на милосердое заступничество; потом доказывал, что присягавший и не сдержавший присяги король — более не государь малоруссам; наконец сказал, что, не желая слышать о конечном их разорении, о запустении и поругании благочестивых церквей от латинцев, московский самодержец велел принять казаков со всеми городами и землями, и приказал помогать им против разорителей христианской веры. «Казаки» (говорил он) «за такую царскую милость и жалованье должны служить государю, желать ему добра и надеяться на его милость. Он же, великий государь, будет сохранять все Запорожское войско в своей милости и оборонять от всяких недругов».