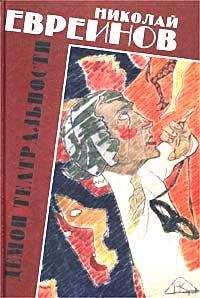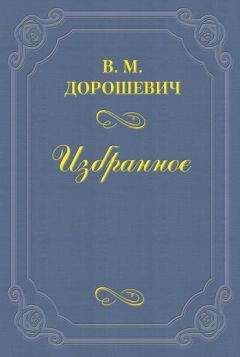Оденьтесь в черное, прикрепив траур на ваши рукава, и — захватив в цветочном магазине, по пути, самые нежные, бутончатые, бледные розы — спешите на могилу вашей… да, вашей (о, притворитесь — это так нетрудно) вашей возлюбленной. Вы оба любили когда-то эту нежную девочку, которая так просто, так наивно и так детски искала хоть какого-нибудь счастья в этом несчастном для таких девочек Городе. И Город погубил ее, а вы не спасли. — И вы, и ваш друг — оба оказались бессильны перед злыми чарами Города, но оба остались жить, когда она умерла. Вы, конечно, как рыцари, понимаете, что смерть девушки — вечный упрек оставшемуся в жизни паладину! И, как рыцари, вы должны себя чувствовать виноватыми!
Но в горести совести вашей есть утешение: некогда холодные, ревниво-враждебные друг другу, вы с благородным приятелем помирились теперь перед ликом примиряющей смерти. Она, эта остывшая девочка, помирила вас, остывая, и это она назначила вам вечную приязнь друг к другу во имя ушедшей из душного Города…
Вы на кладбище…
О, если вы давно не бывали, одиноко не бывали на кладбище, — вас охватит здесь целительно-волшебное успокоение. Нужно, положительно нужно бывать изредка на кладбище, чтобы добрее потом относиться к жизни и не придавать ей в то же время лишней ценности.
Вы ищете ее могилу… Вы находите одну из многих… Кажется, это ее… Кажется… Надпись неразборчива…
{359} Вы присаживаетесь… Убираете могилу цветами… Даете на чай хлопотливому сторожу и отсылаете его подальше…
Несколько минут проходит в сосредоточенном молчании… воспоминаниях…
Зеленеет травка… Небо чисто… Грустно звонят колокола, и где-то чирикают ранние птички…
Она так любила романтичные пикники и эти рыцарские «repas»{822} под открытым небом!..
Вы завтракаете, любовно памятуя о любимом ею…
Беседуете долго о том, что принесла ей, что подарила ей Смерть и не лучше ли здесь лежать, чем продолжать влачить жизнь со всеми ее разочарованьями, со всеми ее несправедливостями, низостями, гадостями, скукой и тревожными, проклятыми болезнями…
Потом, раскрыв одну из антологий, читаете любимых ею Блока, Виктора Гофмана, Поля Верлена.
Если она училась по-английски и любила поборовшего смерть нежно-мудрого Уильяма Блейка, прочтите что-нибудь из его «Songs of Experience» хотя бы это:
And their sun does never shine,
And their fields are bleak and bare,
And their ways are fill’d with thorns:
It is eternal winter there.
For where-e’re the sun does shine,
And where-e’re the rain does fall,
Bade can never hunger there,
Nor poverty the mind appall{823}.
Это, безусловно, ей понравилось бы.
Или одну из песен детски-смелого, в своем очаровании, Василия Каменского! — «Грустинницу», например!
О, не грусти, грустинница,
У грустного окна!
В небе льет вестинница,
Весенница луна.
Цветут дороги бросные,
Качаются для гроз.
Твои ресницы росные
Венчаются для слез.
А розы в мае майные
В ветвинностях близки —
Желанья неутайные
Девинности тоски.
Пойми покой томительный
Мерцания огней. {360}
Вино свирели длительно
Перед лампадой дней.
В твою ли девью келию
Мне, грешному, войти!
Ведь все равно к веселию
Мне не найти пути.
О, не грусти, грустинница,
Я тоже одинок.
Томись и спи невинница,
Жених твой грустноок.
А может быть, в глубине сердца, несмотря на все, на все новейшие течения, она нежно и «по-настоящему» любила Надсона?..
Ну что ж! Разве не все поэты прекрасны, когда они прекрасны в глазах самой прекрасной из всех прекрасных?.. А ведь такова для вас эта покойная!..
Прочтите ж ей на всякий случай (на счастливый случай!) стихи безвременно скончавшегося Надсона и, поправив цветы на украшенной вами могиле, ступайте тихо домой, пообещав в сердце своем возвратиться к ней сюда при первой же возможности.
— Я приготовлю вам такого джюлеппа{824}, что вы только оближитесь.
— Благодарю вас, этого-то мне и надобно.
«Квартеронка» Майна Рида{825}
Сегодня я проведу вечер особенно! — Я буду плантатором, бразильянским плантатором совсем недавнего прошлого.
У меня знакомая — Настасья Ильинична — креолка по цвету лица и волос, креолка по пунцовости губ и по сдавленной гордостью страстности.
Потом я приглашу мулатку из «Аквариума» с чудным именем Сильвана, готовую веселить как угодно и, за скромное вознаграждение, согласную на самую трудную роль.
Я приглашу еще друга Виктора, бренчащего на банджо, человека сурового, не выпускающего изо рта сигары.
Все четверо будем (о! без малейшей подделки) говорить на ломаном английском языке, как это наблюдается у выскочек Бразильянской Америки.
Роли распределяются так:
Я — плантатор.
Креолка (назовем ее Габри) — моя жена, ревнующая меня к Сильване.
Мулатка Сильвана — моя невольница, недавно купленная в Новом Орлеане.
{361} Виктор — главный надсмотрщик, игрок на банджо и «гроза черного мяса».
Место действия — моя столовая.
Сильно пахнет керосином из Пенсильвании, тускло освещающим бутылки рома, арака{826}, ананасы, лимоны, георгийские персики, бананы, всякие сласти, сигары и бразильянское кофе. На помощь этому свету мерцает свет керосинки, на которой все время греется вода для адского грога из арака, которым мы запиваем с «женой» приятную беседу. Беседа вертится вокруг нарядов, которые Габри собирается заказать на ближайший праздник негров, где будут пляски и кривлянья на пирожный приз (Cake-wok{827}). Она перечисляет: «Я надену на голову то-то, на шею то-то, в уши такие-то серьги, на руки такие-то браслеты и кольца, на плечи то-то, на торс это, юбку такую-то, чулки такие-то, башмаки эти, перчатки такие-то, кушак такой-то, в правой руке зонтик такой-то, в левой руке хлыст такой-то».
От пьяного разговора о нарядах она переходит к пьяному разговору о своей красоте.
Мужчины приготовляют джюлей, черри-коблер{828} и мятный джюлепп.
На хлопанье в ладоши Сильвана приносит свежие пшеничные соломинки для напитков и спрашивает, «не это ли нужно массе{829}» или «что угодно миссе{830}».
Она босая, manches-courtes{831}, на левой ноге невольничий браслет, в платье (без всяких dessous{832}) до колен, из продольных полосок белых и красных.
Габри требует ручное зеркало и пересаживается в rocking-chairs{833}, принимая вольно-усталую позу величайшей небрежности, деспотизма и чувства неограниченного самческого превосходства.
Сильвана послушно приносит ручное зеркало.
Габри требует, чтоб Сильвана встала перед нею, на виду мужчин, и начинает, глядясь в зеркало, сравнивать себя с невольницей.
Чем это сравнение обидней для Сильваны и несправедливей, тем это больше и больше тешит меня, Виктора и Габри.
Мы не хохочем — мы ржем, мы рады униженью, ведь мы — это мы — великолепные негодяи с безмерным презреньем в глазах!..
Виктор докурил сигару и зажевал матросский табак, сплевывая коричневую слюну прямо на пол, где, быть может, должны ступить босые ноги Сильваны.
В комнате очень жарко, дымно и одуряюще пахнет араком и мятным джюлеппом.
Габри задает оскорбительные вопросы Сильване и, когда невольница возмущается «миссой», грозит хлыстом, властным привести тело мулатки к подобью полосатости ее платья.
Сильвана чуть не плачет: «Ах мисса, ах масса!» А мы, мы довольны, мы рады, мы ржем, мы торжествуем, мы — великолепные негодяи с безмерным презреньем в глазах!
{362} Ах, дикое счастье свободы от оков морали! Ах, преступная радость свободы рядом с той, на ноге которой железный браслет неволи, рядом с той, кто «черней нас телом, но белей душой»!.. Нас бы всех повесить на нервом встречном фонаре, а мы, — мы на свободе, бирюза и бриллианты на наших пальцах, мы тянем мятный джюлепп, перебрасываемся косточками георгийских персиков, нам тепло, нам хорошо, мы можем сейчас раздеть эту мулатку и обтрепать три хлыста об ее смуглые формы, мы смеемся над человеколюбием, мы смеемся над естественным правом, мы смеемся над добром, и даже не смеемся, а ржем, ржем как пьяные жеребцы, мы — великолепные негодяи с безмерным презреньем в глазах!