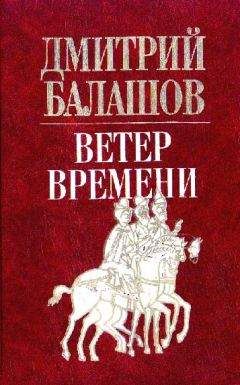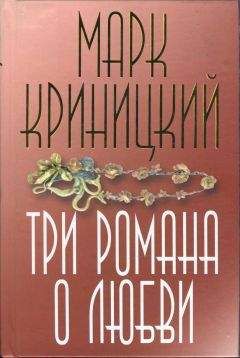На Москву вести о злоключениях Алексия, посланные украдом, отай, и прошедшие через многие руки, дошли далеко не сразу.
Сейчас даже трудно понять, как могло совершиться такое. Алексий уехал в Киев после Крещения, и до трагических событий, совершившихся на Москве в конце года, прошло не менее семи месяцев его пленения в Киеве, о коем, повторим, в русских летописях нет ни слова, и знаем мы об этом лишь из соборных уложений константинопольской патриархии. Но и более того! Осенью, в сентябре, новгородцы посылали в Киев, к митрополиту, ставиться своего нового архиепископа, словно бы еще не зная, в каком тягостном положении находится Алексий. Меж тем попросту не знать о пленении своего владыки москвичи не могли никак. Даже и простая задержка известий должна была вызвать тревогу князя и совета бояр, тем более что Алексия впоследствии прочили ни больше ни меньше – на место блюстителя престола при малолетнем Дмитрии. Объяснить все это возможно лишь намерениями и планами самого Алексия, быть может, какими-то тайными переговорами, которые он вел (с кем? и о чем?), не посвящая в то никого более и надеясь на конечный благополучный исход своей миссии.
Алексию самому не хотелось преждевременно извещать боярскую думу и Ивана Иваныча о том тягостном и стыдном положении, в которое он попал. Кроме того, он еще надеялся, что князь Федор одумается или же струсит и уступит ему. Надеялся даже какое-то время одолеть Романа, надеялся на помощь волынских епископов; наконец, верил во вмешательство патриарха, не ведая о гибели своего первого посольства… Коротко говоря, тайная грамота с просьбою о помочи ушла на Москву только в конце апреля. Причем, по мысли Алексия, помочь должна была быть оказана ему чисто дипломатическая. Дело в том, что Федор с его волостью до сих пор подчинялся Орде и ордынскому хану. (Хоть и был, хоть и числил себя на деле киевский князь скорее подручником Литвы!) И потому, стоило лишь прийти из Орды властному приказу, все и волшебно должно было измениться в городе Киеве.
Алексий связывался уже и с киевским баскаком, и от себя посылал весть Тайдуле, но тут должен был быть ханский указ, ежели надо, подкрепленный военною силою, а основанием указа могла служить жалоба великого князя владимирского. Излечивши Тайдулу от слепоты, Алексий теперь твердо рассчитывал на помощь царицы и ее эмира Муалбуги, которые вдвоем должны были воздействовать на хана Бердибека и иных золотоордынских властителей.
Не стоит рассказывать, через сколькие руки прошла грамота, направленная в Москву, и как долго она добиралась до места. Но, во всяком случае, москвичи не были виноваты ни в какой волоките на этот раз. Дума собралась в тот же день. Мятая, сто раз подмоченная грамота переходила из рук в руки. Бояре супились. Был бы Киев, как говорится, под боком, и сами бы, почитай, пошли отбивать своего владыку у князя Федора. Иван Иваныч, испуганный положением своего заступника, и сам отчаянно торопил с решением, и уже наутро скорые гонцы с избранными из бояр помчались в Орду, загоняя коней…
Да нет! Даже и ратной силы не надобно было! Один лишь строгий фирман, привезенный каким-нибудь вельможным татарином! И то только потому, что у татар днепровских, бывших половцев, были и свои счеты с Ордою, когда-то взорвавшиеся грандиозной войной, затеянною темником Нохоем, а ныне подготовлялось то же самое, и во главе недовольных кипчаков – скоро, очень скоро! – должен был стать темник Мамай, будущий враг Руси… Но до того пока – годы! А днесь, нынче – окрика бы хватило ханского из Сарая и князю Федору, и киевскому баскаку!
Бешеной скачью, от яма к яму, меняя коней на подставах, забывши всяческие возки, мчали молодые бояре московские, грядущая поросль хозяев страны, те, что поведут, возмужав, русские полки на Куликово поле. Скакали, делая по полтораста, по двести верст в сутки, но даже и при такой бешеной гоньбе неделя, почитай, надобилась, чтобы доскакать до Сарая.
Татар увидали нежданно, с вершины холма. Пока совещались, бежать или нет (запаленные кони тяжело поводили боками), стало поздно. К ним подскакивали с перекошенными лицами, на ходу сматывая арканы на руки, что-то вопя.
– Война у их, что ли? – тревожно спросил младший Зернов, названный в отца Дмитрием.
– Кабыть… – нерешительно протянул Семен Жеребец, кладя руку на рукоять сабли. Но Федор Кошка решительно отстранил старшего брата. Выехал вперед, требовательно крикнул по-татарски:
– Ханский фирман!
К ним уже подскакивали, окружая со всех сторон. Кошка подъехал к сотнику, признавши того по платью, и по какому-то наитию, спасшему всю дружину русичей от гибели, возгласил:
– К Тайдуле едем!
Сотник поскучнел, воровато оглядывая русичей. Федор Кошка и тут нашелся – начал совать серебряные монетки каждому из татар. Среди воинов, сбившихся разом в кучу, едва не началась свалка. Какому-то зазевавшемуся зеленому еще татарчонку сунул диргем в рот. Тот от неожиданности выплюнул было серебро, но опомнился, соскочил с коня, начал искать в траве.
Первый приступ сбили, а там уже и говорка пошла. Кошка потребовал у сотника проводить русских гонцов к набольшему. Ехали кучно, теперь уже совокупною дружиной. (На Москве позже, отчаянно привирая, Федор Кошка будет хвастать, что клал серебро в рот подряд всем татаринам и те, спрятав монету за щеку, переставали кричать…) Их все-таки пропустили. Хоть и почванился было эмир, но Кошка, бегло говоривший по-татарски, скоро нашел общих знакомцев, улестил, уговорил, пригрозил даже, словом – выпутались. Уже когда отмотались от последнего татарина, в виду самого Сарая, сказал Федор спутникам:
– А, видать, против Бердибека они! Ишь, галдят!
На большой, разлатой лодье с низкими, только-только достать воды, набоями, заведя сторожко фыркающих коней, переплавились в город.
Сарай тоже шумел. Там и тут вскипали крики, ругань, кого-то били плетью, кто-то, вырываясь, кричал. Кучки ратных на рысях разъезжали по улицам. Покамест добрались до подворья, их останавливали, осматривая, раз шесть.
К Тайдуле попали поздно вечером. Царица принимала Кошку и Митю Зернова у себя во дворце. Долго слушала. Пергаментное лицо с потухшими глазами было недвижно, как маска. Сказала:
– Отец Алексий пусть молит о нас! – Замолкла.
Рабыни ставили перед русичами ненужные кушанья. Зернов ел, не чуя вкуса пищи, из одного уважения к царице.
Кошка долго, быстро и горячо говорил по-татарски, прикладывая руки к груди. Дмитрий не все понимал в речи друга.
Скудно чадили светильники. В колеблемой их тени резче прорезывались отвисшие подглазья на лице Тайдулы. Наконец царица сказала громко:
– Я спасу главного русского попа! Сделаю все, что могу! Ступай! Получи фирман!
Обманывала она или, скорее, сама обманывалась, не понимая (или не желая понимать?), что уже ничего не может, кроме как на краткий срок сохранить свою жизнь?
Назавтра они представлялись хану. Бердибек сидел, вцепившись в золотой трон. Несколько раз, произнеся: «Да, да!», как кукла склонил голову.
Вечером того же дня все трое были у Товлубия. Толстый старый убийца долго молчал, слушал. Вдруг, вздохнув жирною грудью, посетовал, что нет на свете коназа Семена. Кошка, поглядев внимательно в глаза властному старику, понял вдруг по недвижности взора, что тот трусит, и трусит так, что уже и плохо понимает, что ему говорят русичи. И Федору стало жутко. Здесь, у Товлубия, яснее всего понял он, что происходит в Орде.
Назавтра Кошка с Зерновым побывал у суздальского князя Андрея, прибывшего в Сарай по своим делам, потолковал и со многими эмирами. Вечером сказывал, крутя головою:
– Похоже, други, неважные настали для Бердибека дела! И сразу-то… отца задавить да братьев! Чать, и у их, бусурман, совесть есть! А нынче, сказывают, начал убивать то того, то другого, дак уже и все эмиры, почитай, отшатнули от ево! Не ведаю, сумеет ли и царица помочь нашему батьке! – присовокупил он со вздохом. – Просидел бы хотя полгода на престоле еще!
Сарай шумел и ночью, не засыпая. Русичи хлебали стерляжью уху, невольно теснее придвигаясь плечами один к другому. Чуялось, что ночь вот-вот может взорваться сабельным звоном, ратными кликами и бешеным топотом коней…
Уезжали назавтра. А суздальский князь, застрявший еще на два дня, попал в самую круговерть. Передавали – еле живым выбрался.
Весть о том, что Бердибек убит, в Сарае резня и на троне сидит теперь самозванец, назвавшийся сыном Джанибековым, Кульпа, Кульна ли, нагнала русичей за Воронежем. Ничего не стоил теперь фирман покойного хана!
В Киев, похоронив надежды на помощь Орды, весть о гибели Бердибека и о том, что зарезан Товлубий и прочие возлюбленники хана-отцеубийцы и что в степи – война, дошла еще только месяц спустя. Теперь у Алексия оставалась одна надежда, и, кажется, последняя, – на вмешательство Константинополя.
Князь Федор был глуп и труслив. Ольгерд в бешенстве мерил шагами спальный покой своего каменного замка. Вместо того чтобы сразу захватить и уничтожить Алексия (а он бы, Ольгерд, свалил все на Федора, сам вышел сух из воды и на престол митрополитов всея Руси посадил Романа), вместо того, чтобы хоть… отравить, что ли, – кормы ему шлет! Гонцов не пускает! Да уж сотня гонцов прошла, поди, все заставы Федоровы! И не вступиться сейчас, иначе откачнет Константинополь. Изберут иного митрополита на Русь, поди, сместят и Романа! Слухи о безлепом киевском плене митрополита уже поползли по всей Волыни, Белой и Черной Руси. В Вильне на рынках толкуют об этом! Ульяния счас придет и будет страдать и умолять его помиловать Алексия. Ну, ее-то он улестит, обманет, а других? А православных епископов? А Константинополь? Патриархат?! Мерзавец, негодяй, слизняк!