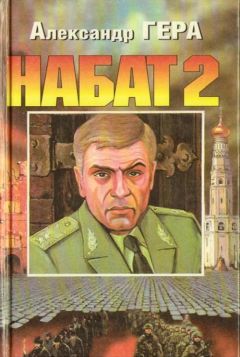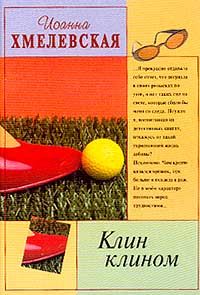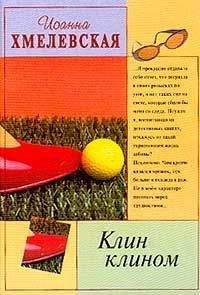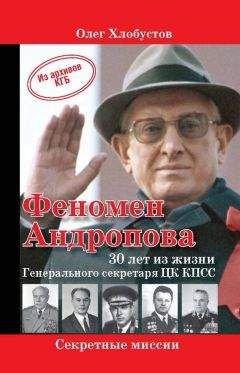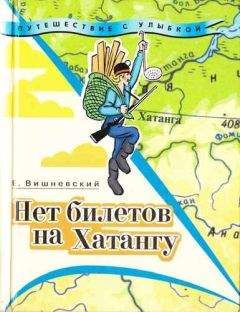Дорогим и желанным гостем встречали воеводу Скопи-на-Шуйского, а многим виделось — хозяин едет. Умен и весел, силен и ласков — такого бы царя! — перешептывались меж собой Глинские, Морозовы, обиженные Захарьиными, Шуйскими, Романовыми. Неладно с нынешним царем и с изгнанным неладно. А — ладно! Слава победителю!
Москва веселилась на славу.
Дубовые столы в царских палатах уставлены снедью густо, вином обносят постоянно, ковши и кубки в руках гостей, воевода Михаил Васильевич рядом с государем, который ласково принимает его и шепчет на ухо веселые слова.
Заерзал на своей скамье боярин Михаил Романов: очень близко подпустили к трону молодца, негоже Шуйских с Шуйскими усаживать, иначе псу под хвост такая долгая и кропотливая работа, уплывет царство из рук…
Качнулся к соседу, боярину Федору Шуйскому, и спросил сладчайшим голосом:
— А что, Федор свет Васильевич, кронецкие земли отпишут-то к монастырям? Государь так решил.
Хлестко получилось. Запыхтел обиженно Шуйский, занозил его Романов. Земли эти почти как ему принадлежат, а патриарх Филарет глаз на них положил.
Переборол себя Шуйский, со вздохом ответил, лица не поворотив к Романову:
— Что ж делать-то? Значит, отпишут, — пробубнил он, замочив бороду в мальвазии, до которой шибко охоч был.
— А вот как нет? — намекал Романов.
— Нет так нет, — соображал Шуйский. — Говори, коль нет.
— А сдюжишь?
— Крест кладу.
— А как вот, ежели племянничек твой глаз на твою женку положил?
— Не замай! — сверкнул глазом Шуйский. Еще одну занозу всадил в него Федор Романов.
Год назад укрывал он от поляков Дмитрия в деревеньке своей Морщихино и этого Романова приютил с домочадцами, а сам он, как перст, сенных девок в Морщихино не захватил и маялся по мужскому делу и женат не был. Подглядел в бане постельничную Ирину Романову и стомился. Будто зуд в голову ударил, только овладел Ириной прямо в баньке и зад о раскаленный камень ожег. И не разговелся толком. Но смутила его постельничная крепко: телом сбитна, распущенная коса до полу, бедра с наплывом и груди-розовые. Снова решил пристроиться где, как зад заживет. Туда-сюда, с месяц прошло, Михаил Романов ответа с него потребовал — забрюхатела девка. Вот те на! — одурел Федор, девка-то сродственница самого Филарета! На Раменья окрутили. А тогда и выяснилось: ничего он не порушил тогда в баньке, стало быть, никакой беременности нет. Только стал он у Романовых вроде потешного, бесприданницу за боярина выдали. Ели, пили, отсиживались в смуту, еще и негожий товар сплавили. Впрочем… девка хороша, слов нет, но кочевряжится: то голова болит, то от него чесночищем несет. Складно породнился с Романовыми на их потеху. Сразу норов Ирина в замужестве показала… А слухи ходят, будто с воеводой Никитой Захарьиным до него путалась и с братом его, вроде и нонешний победитель уже побывал… Ох, Господи…
Обидно боярину.
— Да не серчай, сродственник! — толкнул в бок Романов. — К делу я говорю, — придвинулся ближе.
— Какое такое дело? — насторожился Шуйский. В застольном гомоне ухо навострил, чтобы заветного не упустить.
— Шепну я Филарету, чтоб не забижал тебя, чтоб кронецкие земли тебе отошли. Смекаешь?
И пополз через скамью на свежий воздух выйти.
— Постой! — задержал его Шуйский. — Что надобно тебе?
— Да ничего! — отмахнулся Романов. — К ночи пошли Ирину изголовье победителю поправить. Только и всего.
Романов ушел, а Шуйский затылок почесал. Вон как с племяшом складывается, близко к государю сел. Может, в девках он толку не нажил, а сильную птицу в полете узнает.
И пополз через лавку следом за Романовым, чтобы наказ челядинцу дать незамедлительный.
Романов оказался прытче, самолично в хоромы Шуйских отправился Ирину уговорить…
К концу пира думный Федор Романов вернулся, на воеводу глазом победителя поблескивает, а тому и дела нет до сидящих за нижним столом. С государем одесную сидит, пьян и весел, молод и до утех охоч.
От стольного пира через Спасские ворота разъезжались, но государь воеводу не отпустил, велел стелить ему в Красном тереме и всякие заботы победителю соблюдать.
До терема воеводу сопровождали царские рынды, на крылечке поклонились и выжидали воеводского слова.
— Дыхнуть надо, — молвил Скопин-Шуйский и отпустил охранников. Сам за терем свернул по малой нужде. На ногах держался ровно, будто и не пил наравне с любым подносящим.
— Оборотись, княже, — услышал он за спиной. Голову поворотил и за меч схватился.
— Не надо, княже, я с миром. Мир тебе.
— Кто будешь? — не отпускал рукоять меча воевода.
Стоял перед ним прежний нищий, что на въезде встренулся. Только не ущербен, как показалось тогда, а справен телом и ликом умен, что различил воевода в свете полной луны.
— Странник я. Пармен. Слово принес тебе. Позволь молвить. Только не здесь.
— Тут говори, — настаивал воевода и голос возвысил.
— Ушей много. Давай в нижнюю светелку зайдем, там и молвить буду, — не испугавшись воеводского гнева, сказал пришелец и пошел вперед, закутавшись в монаший плащ до бровей.
За ним воевода вошел в нижнюю боковушку. Сенные девки им отворяли, согнулись в поклоне, так ничего и не понявши.
В оконце луна, за столом странник, напротив воевода присел. Необычный гость и взор трезвит напрочь.
— Сказывай…
— Тогда слушай и ответствуй, — молвил странник, и воевода безропотно подчинился.
— Ведомо ли тебе, что из Тушина ты законного царя изгнал?
— Ведомо, — не спуская глаз со странника, ответил воевода.
— Зачем же понужал его?
— А он смуту новую начнет сеять и Шуйских под корень изведет, не помилует.
— Кто сказал тебе это?
— Сам понимаю. На русской земле давно пора наводить порядок. Хватит смут. Недород, бескормица, бабы детей без кожи рожают, болезни тож.
— А с Романовыми и Шуйскими они враз выздоровят?
— Истинно! За Рюриковичами корня не осталось, весь сошел на нет, а Романовы, Захарьины и Шуйские в гору идут, — умно складывал разговор воевода Скопин-Шуйский.
— И это у нынешнего царя корень?
— Временный он, моя очередь, — с надменной уверенностью отвечал воевода Михаил.
Странник помрачнел.
— Эх, княже! Таких к власти не подпускают.
— Сам выйду! И кто ты таков будешь, поучать меня?
— Ужель не понял? — хмуро усмехнулся странник. — Знать, не случайно. Что новым родом даруют, здесь ты прав. Токмо у тебя, окромя меча, ничего нет. Я оборонить хочу, такая у меня корысть. Неладная ночь эта, полнолуние, темные силы вышли. Переживешь эту ночь, быть тебе царем, а поддашься искусу — смерть. И не о себе думай, княже: Русь может другой дорогой пойти, на многие годы по бездорожью, и под чужой рукой, и по чужим знакам. Об этом думай, о потомках.
На миг призадумался воевода, взвешивая слова странника. Есть в них зерно, волхвы похожее предсказывали, да кто его сейчас сломить может?
— Учту, дядя, — ответил он размеренно. — А знак покажи, твоих слов праведность.
— Мир тебе, — молвил странник, поднялся и ушел сквозь стену, будто дым испарился.
Воевода подождал с минуту, протер глаза. Привиделось?
Нет, не привиделось: слова запали в душу. Ночь пережить — много ли ума надо?
Пред ним, выходящим из светелки, сенные девки согнулись в поклоне. Под сарафанами округлились справные, литые задницы, хмыкнул воевода и пошел наверх в опочивальню.
Застать наверху особую соблазнительницу он не чаял. Выпрямилась та, и обомлел воевода.
— Зазнобушка моя!
— Будь здрав, княже, любимый мой! — сияла Ирина одним лицом. — Вырвалась вот от постылого, к тебе прибежала.
И так она поспешно сказала это, что засомневался воевода, слова Пармена вспомнились отчетливо — ночь пережить, искусу не поддаться. Подобрался он. От хитроватого дядьки его Ирине на ночь не сбежать, не то здесь… Зашевелились Романовы, смекнули, чем его достать. Неравнодушен он к прелестям Ирины, да не того он замеса. А что Ирина отвергала его долго, сейчас прямо должок ей и отдаст…
— Любить собралась жарко? — сделал свой голос податливым Михаил.
— И крепко. Дай обу́ву сниму…
Он позволил ей стянуть сапоги. В прорезь рубашки видел ее сочные груди. Хороша, стерва, желанна до боли!
— Ложись, любимый, ненькать стану…
— И мужа своего, боярина, не испугалась?
— Что ж ты такое спрашиваешь? Только ты свет в окошке!
— Ну так… — прикинулся соловым Михаил. — А кликни сюда девок, смотр вам устрою.
— Как пожелаешь, княже! — словно обрадовалась Ирина и крикнула вниз сенным подняться.
Шестеро девок заскакали наверх по ступеням, в опочивальню вплыли лебедушками, стали вдоль стены и ждут.
— Сарафаны долой, князь смотр чинить будет. И ты с ними…