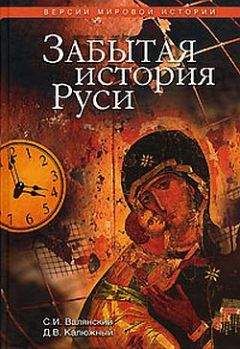Сегодня мы имеем возможность оценивать демократию не по формальным признакам, а по ее общественно-культурным и моральным ценностям. Равенство и выборность должностей в общине, живущей грабежом и разбоем, никого не восхитят. Господства толпы никто сейчас с понятием народовластия не сближает. А запорожским казакам именно государственного начала и недоставало. Они воспитаны были в духе отрицания государства. Казаки не только гетманский престиж ни во что не ставили, но и самих гетманов убивали с легким сердцем. Сохранилось описание банкета, данного Мазепой в шведском стане, в честь прибывших к нему запорожцев. Подвыпив, запорожцы начали тянуть со стола золотую и серебряную посуду, а когда кто-то осмелился указать на неблаговидность такого поведения, то был тут же прирезан.
Если такой стиль царил в эпоху гетманщины, когда казачество пыталось создать что-то похожее на государственное управление, то что же творилось в знаменитой Сечи? Кошевых атаманов и старшину поднимали на щит или свергали по капризу либо под пьяную руку, не предъявляя даже обвинения. Рада, верховный орган управления, представляла собой горластое неорганизованное собрание всех членов «братства». Казачья «демократия» была на самом деле охлократией, властью толпы. Не здесь ли таится разгадка того, почему Украина не сделалась в то время самостоятельным государством? Могли ли его создать люди, воспитанные в антигосударственных традициях?
Захватившие Малороссию казаки превратили ее как бы в огромное Запорожье, подчинив весь край своей дикой системе управления. Отсюда частые перевороты, свержения гетманов, интриги, борьба друг с другом многочисленных группировок, измены, предательства и невероятный политический хаос, царивший всю вторую половину ХVII века. Не создав своего государства, казаки явились самым неуживчивым элементом и в тех государствах, с которыми связывала их историческая судьба.
Многие исследователи объяснение природы казачества предлагают искать в Диком поле (Дешт-Кипчакии), среди тюркских кочевников. Полагаем, действительно, осевшие в Приднепровье «степняки» (потомки крестоносцев низших званий) со временем русифицировались и положили начало южнорусскому казачеству. Согласно П. Голубовскому, между «степным кочевым миром» и русской стихией не было в старину той резкой границы, какую мы себе обычно представляем. На всем пространстве от Дуная до Волги «лес и степь» (оседлые и пришлые) взаимно пронизали друг друга, происходило сильное смешение кровей и культур.
Одичавшие воины Ватикана долго не могли угомониться. Об «азовских казаках» неоднократно пишут русские летописцы со времен Ивана III, характеризуя их как самых ужасных разбойников, нападавших на пограничные города и чинивших необычайные препятствия при сношениях Московского государства с Крымом (населенным татарами). «Поле не чисто от азовских казаков», – читаем мы постоянно в донесениях послов и пограничных воевод государю.
Казаки не признавали над собой власти ни одного из соседних государей, хотя часто поступали к ним на службу, что естественно для потомков людей, служивших внегосударственным формированиям, вроде рыцарских орденов. Отряды казаков состояли на службе у Москвы, не гнушалась ими и Польша. Известно, по крайней мере, что король Сигизмунд Август призывал к себе белгородских (аккерманских) и перекопских казаков и посылал им сукно на жалованье. Но чаще всех привлекал их себе на помощь крымский хан, имевший постоянно в составе своих войск крупные казачьи отряды. Разбойничая на пространстве между Крымом и «московской Украйной», казаки были в военном, бытовом и экономическом отношении самостоятельной организацией.
Да и легендарные казацкие морские походы в Турцию были совсем не патриотическим и не благочестивым делом. Это ясно из их поведения в христианских странах.
«Были в Швеции казаки запорожские, числом 4000, – пишет польская летопись, – над ними был гетманом Самуил Кошка, там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великий вред сделали и город славный Витебск опустошили, золота и серебра множество набрали, мещан знатных рубили и такую содомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар».
Под 1603 годом повествуется о похождении казаков под начальством некоего Ивана Куцки в Боркулабовской и Шупенской волостях, где они обложили население данью в деньгах и натуре. «В том же году в городе Могилеве Иван Куцка сдал гетманство, потому что в войске было великое своевольство: что кто хочет, то делает. Приехал посланец от короля и панов радных, напоминал, грозил казакам, чтоб они никакого насилия в городе и по селам не делали. Все люди плакали, Богу Создателю молились, чтобы таких своевольников истребил навеки. А когда казаки назад на Низ поехали, то великие убытки селам и городам делали, женщин, девиц, детей и лошадей с собою брали; один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3, 4, женщин или девиц 4 или 3».
Чем эта картина отличается от вида крымской орды, возвращающейся с ясырем из удачного набега? Разница может быть та, что татары своих единоверцев и единоплеменников не брали и не продавали в рабство, тогда как для запорожских «лыцарей» подобных тонкостей не существовало.
В среде казачества многие десятилетия практиковалось намеренное выпячивание собственных воинских доблестей, что объясняется, по-видимому, не сословным или национальным чванством, а созданием благородной легенды о своем прошлом. Явление прогрессивное, с прицелом на будущее. Ведь в первой четверти ХIХ века пошли разговоры в среде малороссийского дворянства о возможном восстановлении украинского казачества. Малороссийский генерал-губернатор князь Н. Репнин, утвержденный в этой должности в 1816 году, даже представлял Александру I и Николаю I меморандумы на этот предмет. Самым серьезным возражением против такого проекта было укоренившееся со времен Петра Великого убеждение в военной несостоятельности казаков; они не умели вести регулярных войн с европейски обученными войсками. «И понеже можете знать, – писал Петр Мазепе, – что войско малороссийское нерегулярное и в поле против неприятеля стать не может». Казацкий способ сражаться служил для Петра образцом того, как не следует воевать. Всякое отступление от регулярного боя он именовал «казачеством».
Известно было неумение казаков осаждать города. Вообще там, где нельзя было взять неприятеля врасплох лихим налетом или обманом, казаки долго не трудились; тяготы и жертвы войны были не в их вкусе.
Шведы за полугодовое сотрудничество с ними прекрасно разгадали эти качества. До наших времен дошел разговор Карла ХII со своим генерал-квартирмейстером Гилленкроком под Полтавой во время ее осады. Гилленкрок высказал мнение, что русские будут защищаться до последней крайности и королевской пехоте сильно достанется от осадных работ. На что Карл заметил, что он вовсе не намерен употреблять на это свою пехоту, а следует использовать запорожцев Мазепы. Гилленкрок ответил: «Но разве можно употреблять на осадные работы людей, которые не имеют о них никакого понятия, с которыми надобно объясняться через толмачей и которые разбегутся, как скоро работа покажется им тяжелой и товарищи их начнут падать от русских пуль».
Степной характер военного искусства обрекал казаков на мелкую служебную роль во всех армиях, в составе которых им приходилось участвовать, – в польской, русской, турецкой, крымской, шведской. Везде они фигурировали в качестве легкого вспомогательного войска.
Составители лестных казакам «историй», вроде известной в XIX веке «Истории Русов» (выводившей всю вообще русскую историю из казаков), это знали и всеми силами старались представить военную деятельность своих предков в ином виде. Это было важно им с точки зрения восстановления казачества; слишком же общеизвестные факты поражений они непременно объясняли всевозможными изменами и предательствами.
Школа Запорожья была не рыцарская и не трудовая крестьянская. Правда, что много крепостных мужиков бежали туда и много было поборников идеи освобождения селянства от крепостного права. Но, принесенные извне, эти идеи не приживались в Запорожье и подменялись другими. Не они определяли образ Сечи и общий стиль ее жизни.
Казакование было тогда[85] особым методом добывания средств к жизни. В низовьях Днепра сабля приносила больше барышей, чем хозяйство. Именно поэтому в казачество шли не одни простолюдины, но и шляхта, подчас из очень знатных родов. До учреждения оседлого реестрового казачества в середине ХVI века термином «казак» определялся особый образ жизни, «сходить в казаки» означало удаляться в степь за линию пограничной охраны и жить там как угодно, то есть, в зависимости от обстоятельств, ловить рыбу, пасти овец или грабить.