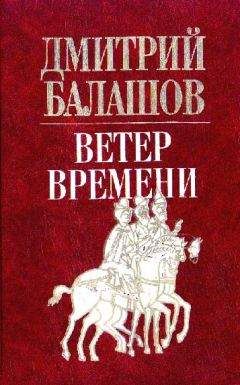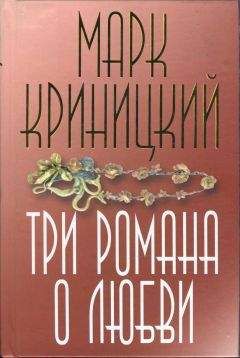Он шел, такой, верно, как пишут праведников на иконах: в полном священническом облачении и в легких липовых лаптях, пробираясь почти неслышно своим разгонистым ходким шагом по лесной тропинке, когда впереди глухо рявкнуло, мало не испугав, и мишка, стоя на задних лапах, оборотил к нему мохнатую морду свою. Слова брата о медведе пришли в ум, и на миг подумалось о том давнем приятеле своем. Сергий тихо позвал, ступил раз, другой, приближаясь к медведю. Но тот почти по-человечьи отмотнул головой: не я, мол! – опустился на четвереньки и пошел в сторону. Остановился на миг на пронизанной солнцем полянке, еще раз поглядел на Сергия, глухо рыкнул и исчез в кустах.
Садилось солнце. Уже покраснели его прощальные низкие лучи. Сергий наклонился, собрал горсть тающей во рту ароматной лесной земляники, неторопливо съел. Подумав, решился и заночевать в лесу. Не хотелось сейчас, в днешнем состоянии духа, искать какого-нито жилья. С последними каплями багреца, прорвавшимися сквозь заплот стволов, он нашел старую ель, нижние ветви которой утонули во мху, образовавши почти целиком закрытый шатер, нашел отверстие и заполз туда, на сухую горку колкой прошлогодней хвои. Здесь было тепло от нагретого за день воздуха, тепло, темно и тихо. Он еще подумал о давешнем звере: не пришел бы к нему сюда ночевать невзначай! Улыбнулся и уснул, положив под голову край омофория.
Спал Сергий не более двух часов, но выспался хорошо и, помолясь, выполз опять из приютившего его лесного шатра в туман, белым молоком налитый среди елей и берез, умылся росой, слегка издрогнув от утреннего холода, и, глянув на бледнеющее передрассветное небо, легким шагом устремил дальше.
Знакомый игумен монастыря на Махрище, Стефан, после сказывал, смеясь, что некто из братии, углядев Сергия в ризах, выходящего на заре из лесу, причем сияние солнечных лучей окружило его словно бы световым облаком, ринул со страху в обитель, невесть о чем подумавши тою порой. Верно, принял Сергия за какого-то сошедшего с небес угодника Божия.
И вот они сидят со Стефаном Махрищенским друг против друга, и Сергий ест и, ничего не объясняя, просит проводника, дабы отыскать место для новой обители. Стефан глядит внимательно ему в лицо, понятливо склоняет голову и не выспрашивает ничего больше.
– Отдохни, брат! – говорит махрищенский игумен Сергию. – Побудь мал час со мною и братией, а заутра двинешься в путь.
Он очень долго молился в этот вечер, отгоняя от себя нахлынувшие видения прошлого. И лег спать только тогда, когда почуял в душе мир и спокойную, благостную тишину.
Нет, он ничего не потерял! А приобрел – многое. У него есть друг (и не один!), что поможет ему, ни о чем лишнем не вопросив, у него есть память, есть вера и есть знание того, что надобно делать теперь на новом месте и как надобно делать, дабы общее житие было с самого первого дня, чтобы шли – те, кто придет не к иному чему, а к предуказанному иноческому подвигу, чтобы киновия, для которой он еще даже не нашел места, стала подлинным вместилищем духа, и ничем иным!
Ведал ли Алексий вдали, в невольном заточении своем, что его детище, обитель Святой Троицы, извергла создателя своего и Сергий ищет место для новой обители, чтобы начать наново, от истока, всю свою жизнь, и подвиг, и труд? Алексию было не до того теперь. Он только что получил весть о гибели Бердибека и понял, что Орда ему не поможет, и ждал теперь вестей из Константинополя.
Сергий искал место для новой обители несколько дней. Брат, посланный с ним игуменом Махрищенского монастыря, порядком-таки уходился в путях и уже про себя, отчаявшись обрести отдых, начинал недовольничать, с недоумением взглядывая на двужильного радонежанина, когда наконец место нашлось.
Что ищет русский человек, какое место избирает для поселения своего на Великой русской равнине, полого всхолмленной и пересеченной струями рек? Горных вершин, в том понимании, в каком они привычны нам, знающим Кавказ, Урал и Карпаты, тут нет, и само слово «гора» означало в древнем языке русичей попросту всякую сушу, берег, землю, в отличие от воды, а совсем не гору в том каноническом, нынешнем понимании этого слова.
И при всем том ищет русский человек всегда – высоты и выходит на высоту, место «красное», то есть высокое и красивое, откуда и видать далеко. Так, древние киевляне, получив под Выдубицким монастырем образованную подпорною стеною площадку для гуляния, вознесенную над обрывом Днепра, любовались видом оттуда, говоря: «Яко аэра достигше!»
И для языческих треб своих славяне-солнцепоклонники избирали всегда холмы и подсыпали, насыпали даже «Велесовы горки». И места, где водили хороводы в деревнях, звались горками и устраивались обычно на открытых взору высоких обрывах.
Память далекого, исчезающего во мгле времен прошлого, память пращуров, живших когда-то в подкове Карпатских гор и спустившихся оттоле на равнины Приднепровья? Возможно! Так ли, иначе, но в отличие от рыбаков-чудинов, селившихся у воды, в низинах, русский человек избирал всегда высокие красные места, а были такими на Великой русской равнине главным образом высокие берега рек, крутояры (от слова яр, ярило, солнце, коему поклонялись славяне на высотах своих). И так же, на крутоярах, ставили позже церкви, чтобы далеко видать было – шатер ли вознесенный, главу ли церковную или гроздь круглящихся в аэре луковичных глав.
И Сергий безотчетно искал для себя места красного, высокого, открытого взору, и вот наконец нашел.
Они были верстах в пятнадцати от Махрищенской обители и шли по берегу Киржача, огибая широкую речную пойму, по весне, видно, всю заливаемую водой. Бор на далеком извиве берега подымался высокою гривой, и по бору скорее, чем по чему другому, почуялась высота. Пока пробирались частолесьем, лесная грива ушла из виду, удалилась куда-то вбок, а полого восходящий, заросший красным сосновым лесом берег почти не давал ощущения подъема. Но вот в прорыве сосен вновь отокрылась взору прежняя пойма, но уже глубоко внизу, и река, выбегающая из-за невысокого мыса, неслась прямо на них, ударяясь в изножие обрыва, и по бегучей силе воды казалось, что сам берег плывет, наплывает на эти бурлящие струи.
Река уходила налево, а за нею, на запад, лежала, точно в чаше широкой, лесная долина, и зубчатые на самом краю небесной тверди синие языки далекого леса наползали на нее с двух сторон, не смыкаясь, а между ними висела, таяла в золотистой рассеянной дымке вечереющего солнца распахнутая до самого окоема легчающая воздушная голубизна, словно ворота, отверстые в вечерний несказанный свет.
Сергий до того шел скорым шагом своим, скользя между стволов, и вдруг его словно что-то толкнуло. Он прошел еще, остоялся, повелел спутнику молчать, стоял и смотрел. Медленно побрел назад, остановился, поворотил, пошел словно бы ощупью, глядючи и не видя. Искал тот тайный позыв и – нашел. Опять словно толкнуло в грудь и лицо. Струилась река. Место было красно и прилепо, но и не то было самое важное. Красивых мест они навидались за эти дни. Было в окоеме, распростертом окрест, некое напоминание. Словно видел давным-давно, в детстве глубоком или еще до рождения. Видел и позабыл и днесь, душою, вспомнил.
Он стоял, забыв о махрищенском брате, стоял и думал, даже не думал, а впитывал в себя то, что пришло к нему невестимо, и уже понимал, угадывал, сведал – здесь!
Тогда Сергий подошел к обрыву, опустился на землю. Сидел, впитывая в себя тайную весть, и прилеплялся к ней, оттаивая сердцем. И когда уже позабытый брат намерил разбудить, окликнуть Сергия, встал, оглянул проясневшим взором махрищенского инока, боровой лес, далекие облака над дальнею волнистою чередою окоема и, протянув руку, попросил секиру, заткнутую иноком сзади за ременной кушак.
Звонкие удары топора и гул очередного рухнувшего дерева встретили гаснущую над дальними лесами вечернюю зарю. Сергий рубил себе келью. Потрескивал костер. Ободрившийся махрищенский инок, приготовив ужин, налаживал нехитрый ночлег. Маленькое храброе пламя изо всех сил боролось с величавым угасанием солнца.
К Ольгерду в Вильну выехал московский посол Дементий Давыдович. Василий Вельяминов распорядил двинуть к Ржеве запасные войска. Чаяли ордынской помочи, но тут погиб Бердибек, старому барсу Товлубию перерезали горло. В Орде творилось несусветимое. От нового хана, Кульпы, который, захватив Сарай, вел безнадежную борьбу со степными эмирами, казнил направо и налево, грабил ордынские города и явно не собирался долго сидеть на престоле, какой-либо помочи получить было неможно. Тайдула только потому осталась в живых, что ордынский самозванец объявил себя Джанибековым сыном. Из-за ордынского розмирья даже и посольство в Константинополь не могло выехать. А тут паки утесняемый Василием князь Всеволод побежал в Литву. Дело усложнилось невероятно, и вся надежда теперь была уже только на Царьград.