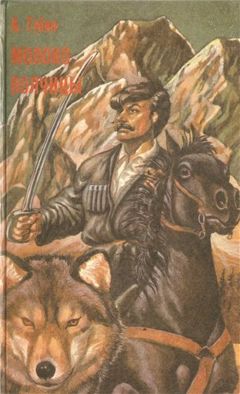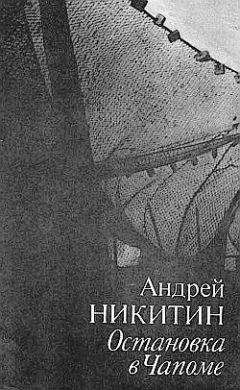Его пленяли казаки Пушкина, Лермонтова, казаки Сибири, Средней Азии охотники, землепроходцы, строители, воины. С восторгом читал он книгу шведского путешественника, который просил русского императора дать ему в проводники по Центральной Азии казаков, обещая в благодарность за это посвятить книгу о путешествии царю, и который посвятил книгу двум безграмотным казакам-проводникам — столь рыцарственно проявили они себя в путешествии.
Михей Васильевич радовался, когда открывал национального героя, ученого, поэта — казачьих родов. И поселилась у него мечта: создать красное казачество на границах новой России, людей особой воинской породы — один против ста. В ответ на это Михею Васильевичу говорили:
— Ты все от казачества не отвыкнешь. Ленина читал? У Ленина о казаках не встретишь хороших слов. У него что казак, что жандарм — одно и то же.
— Ленина я читал, — отвечал Есаулов. — В его статьях, правильно, не встретишь одобрительной оценки казаков царского покроя, которые подавляли рабочие выступления. А «Казаков» Толстого любил, а Советы казачьих депутатов были созданы не без ведома Владимира Ильича.
Это пристрастие Михея Васильевича к сословию окраинных людей России прошлого не раз приводило его к нежелательным столкновениям, к резкости, нетерпимости, ошибкам. Случалось, что Есаулов действительно был неправ, смотрел назад. Его недоброжелатели стали доказывать, что в душе красного командира, коммуниста еще гнездился сословный дух. Взяли его на карандаш. До поры до времени. До первой волны.
И волна прихлынула.
Старое еще поднимало свою змеиную голову.
В виноградной беседке Ульяна Есаулова гостя потчует — Сучкова чаем с вишней поит, дрожат кольца на пальцах.
— А мы заждались тебя, Михей, — поднялся начальник НКВД. — Порядок и форму знаешь — сдай оружие.
— Мне оружие Орджоникидзе вручал!
— Нету его, Орджоникидзе, сдавай нам.
— А вы кто такие?
— Солдаты революции. А ты враг революции.
Обезоружили. Увезли в появившемся впервые ч е р н о м в о р о н е глухом тюремном автомобиле. Допрашивали три ночи. Несколько раз заставляли писать автобиографию, начиная с прадеда, линейного казака. Отыскалось пятно: дед Михея был помощником атамана, чем Есауловы втайне гордились не лыком шиты! — и чего не скрывали, атаманами были и Ермак, и Разин, и Пугачев, и Платов, и Богдан Хмельницкий, но слово а т а м а н после семнадцатого года лучше было не соотносить с собой. Т р о й к а судила:
«…и за антисоветские действия на посту предстансовета, выразившиеся в спасении двух церквей, массовом раскулачивании середняков и бедняков — с целью вызвать мятеж, а также в ущемлении прав отдельных полноправных граждан, — снять с должности председателя колхоза, из партии исключить… Учитывая ходатайство и поручительство крайкома партии, заключению не подвергать… Просить Верховный Совет лишить ордена Боевого Красного Знамени… звание воинское снять… передать в гарнизон из музея личное оружие бывшего героя гражданской войны»…
Так сработал донос на Михея. Крайком партии с превеликим трудом сумел отстоять своего любимца от пули или решетки. Неграмотный донос подписан несколькими неразборчивыми фамилиями — этого было достаточно. О затаенной против него змеиной злобе Горепекиной Михей знал — он ведь ей всю карьеру испортил. А Золотарев, член тройки, предлагал дать Михею в ы ш к у высшую меру наказания, расстрел. В доносе, по-видимому, под диктовку писалось, что Михей — тайный христианин, выступал в защиту врага народа Якова Уланова, с которым неоднократно пытался аннулировать Советскую власть на местах, что он не одобрял генеральную линию, а о колхозах сказал прилюдно, будто в станице колхозы разнятся между собой, как одно кулацкое хозяйство с множеством бедняцких. В самом деле Михей так сказал на одном собрании, потому что среди семнадцати колхозов — имени Тельмана пользовался особым вниманием и средствами, и Михей хотел все колхозы сделать богатыми, а не один, образцово-показательный. Вновь напоминалось в доносе, что один брат Михея белогвардейский полковник, другой кулак, и оба ныне в бегах от Советской власти.
— Никакой он не полковник, дурак! Он сотником кончил германскую.
— Если впишу эти слова в протокол, крышка тебе, — сказал Алтынников, новый прокурор, присланный в станицу в горячие дни, как на уборку урожая. — Извинись.
— Извини, — переломил себя казак.
— Извините! — поправил его толстогубый прокурор.
— Извините, — повторил Михей, заливаясь смертным потом, врачей-то придется признать, сердце отказывало на допросах.
— Вы свободны, — сказал прокурор.
Михей стоял перед ним, жалкий, сгорбившийся, с обрезавшимся, небритым лицом, рядовой враг народа, которого даже не посадили, а просто выкинули в единоличники, лишив права голоса на пять лет.
— Можете идти, пропуск у часового, в списке.
— А партбилет? — просительным шепотом сказал Михей, отлично понимая нелепость своих слов.
— Не прикидывайтесь идиотом!
— Мне кольт Серго Орджоникидзе дарил, там надпись, не затеряйте его…
— Пошел вон! П-паскуда…
На площади Коршака гулял ветер.
На обелиске высечены трое в гранитных шинелях, со знаменем пурпурного камня. Один ранен и двое других поддерживают товарища. У раненого лицо Михея. Не угадали мастера композиции на обелиске, Невзорова и Анисим Лунь, — двое давно погибли, а Михей как раз жив, но ранен точно. Все трое тревожно смотрят на запад, прислушиваются к отдаленной канонаде пушек. Ярко-красные канны цветут на квадратной клумбе-могиле.
От памятника Михей пошел домой, выбирая переулки поглуше, безлюднее. Присаживался на камень у какого-нибудь двора и отдыхал — может, пойти все-таки к докторам, сердце будто кто ладонью стиснул и не пускает биться.
Пыль, трава, одиночество. Белые горы Кавказа.
Равнодушие к собственной судьбе.
Ночью сидел в звездном саду. Ремень ему вернули, деревья крепкие, выдержат, вот хоть яблоня, что посадил Михей в день своей женитьбы. Есть и патрон в сарае от двустволки, можно прикрутить его к деревяшке и ударить по пистону хвостом напильника, промаха не будет… Есть браунинг-кастет, и три обоймы к нему добыл Михей, но будто чуял обыск, в колхозе спрятал.
Ну нет! Хрен вам в глотку! Не доставит радости врагам народа, а он их видел нынче в лицо! Они пусть стреляются, пока не поздно — придет на них революционный суд! А Михей еще повоюет! Чужие судьбы заставляли его жить, стоять до последнего за Советскую власть.
Чужие судьбы… Расстреляли пекаря Семена Кириакиди — отказался показать на соседей, что они п р а в ы е у к л о н и с т ы. Семен не понимал этих слов, он лишь с трудом писал свою фамилию. Осиротели четверо малых детей. Ивана Бекешева, землекопа — семь душ детей, — заставляли выдать десять врагов, засевших, по мнению тройки, на Деловом дворе, где работал Иван. Деловой двор — кузнечно-слесарные мастерские. С задачей Иван не справился. Пришлось хлопнуть его самого. Был Иван богатырь видом — на голову выше Сучкова, и как-то поборол в бродячем цирке приезжего борца, мастера французской борьбы.
Прошло двадцать с лишком лет со дня революции. Победила Советская власть, закрепленная новой конституцией. Есть в той победе и доля Михея. Но борьба не кончилась. Поэтому бывший член ВКП(б), орденоносец, награжденный почетным серебряным оружием, председатель нашей станицы Михей Васильевич Есаулов тихо выехал со двора в темную, ветреную ночь, таючись. Решением коня реквизировали, но лишь на бумаге — так никто и не явился за конем. Лицо всадник скрыл башлыком, как абрек в набеге, как заговорщик, повстанец. За поясом под буркой крестьянский, пугачевский топор.
Конь-братишка все понимал, чуял напряжение в теле всадника, шел споро, но без лишнего, бахвальского цокота копыт — не на параде. А когда впереди буркнул голос и блеснули искры цигарки на ветру, и вовсе пошел по-змеиному, бесшумно. Миновали и — легкая рысь, галоп, аллюр по мягкой пыльной дороге в сторону лесных балок. Из-за зловещей Монах-скалы тускло глянуло раскаленное пушечное жерло луны и тут же исчезло — дорога пошла низом, садами, над речкой.
Темь безудержная, беспредельная, замогильная. Одиночество, ветер и жуткая воля. Страшно шумели камыши. Стыдясь коня, Михей всхлипнул лишь в шуме болотной рати. А когда ветер примерк, ласково потрепал холку коня: ничего, братец, казакам не привыкать к дальним странам. Доедем и мы до утра-солнышка!
Ночная Чугуева балка. Луна надвое распахала ее — одна сторона черная, лесная, другая в тусклом, мертвенном свете, ковыль-трава. А по долине едет мертвый рыцарь, прикрученный к седлу, свесив голову на грудь. Вот и мрачная сторожка лесника Игната Гетманцева, что командовал в полку Михея эскадроном разведки.
— Игнат, пусти, я это, Есаулов… Какой, какой! Михей, тебе говорят! На всю жизнь вас испужал Спиридон…