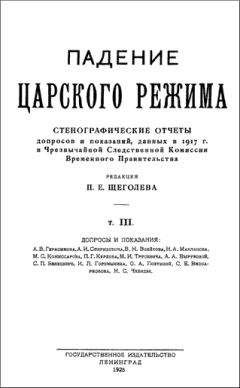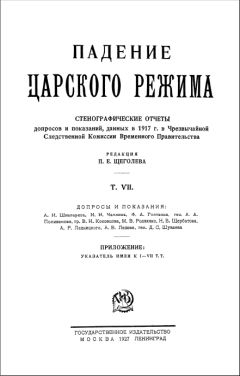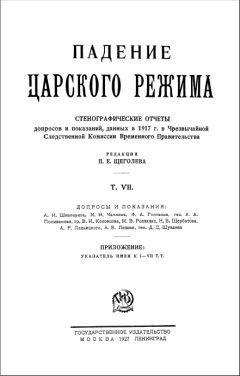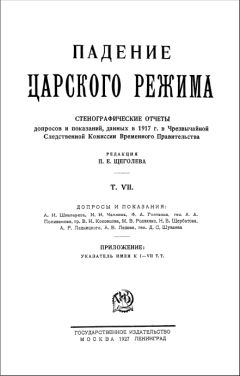Председатель. — Теперь позвольте вас просить свести это к одному итогу. Относительно того, что подготовлялось тогда, вы узнавали только из газет, из того, что говорили в общественных кругах, это с одной стороны, а с другой стороны, вы знали нечто из вашей аудиенции с бывшим главой верховной власти. Позвольте мне спросить вас прежде всего: а не знали ли вы чего-нибудь из думских кругов? Вероятно, были там элементы правого сектора Думы, стоявшие ближе к власти, нежели председатель Государственной Думы; не было ли каких-нибудь разговоров о грядущем перевороте среди правых членов, немногих правых членов Государственной Думы?
Головин. — Дело в том, что у меня с ними не было почти никакого контакта. Представителей правого крыла я видел только на заседаниях. Если память мне не изменяет, перед роспуском Думы никаких заседаний не было.
Председатель. — Если все это свести воедино, то как же вы ответили бы на мой вопрос о том, каким образом власть того времени, беря на себя инициативу этого государственного переворота, перешагнула тогда через препятствие манифеста 17-го октября и основных законов?
Головин. — Я думаю, что министерство, после трех месяцев думской работы, увидало, что сама Дума не нарушит закона, что она не совершит такого акта, который давал бы основание распустить Думу, как вышедшую из пределов, предоставленных ей законом. Несмотря на свой крайний левый состав, несмотря на левое настроение, 2-я Дума была, как вам известно, чрезвычайно осторожна в своих действиях и, несмотря на все подводные камни, которые встречались на ее пути, несмотря на некоторые провокационные действия со стороны министерства, требовавшего, например, обсуждения политических убийств,[87] благополучно обходя все эти подводные камни, ни разу, ни единым своим постановлением не совершила какого-либо незакономерного акта. Такое поведение Думы ставило министерство в положение чрезвычайно затруднительное и потому вполне естественно, что оно пошло на роспуск. А для того, чтобы распустить Думу, пришлось прибегнуть к всем известному акту, к известному провокационному обвинению социал-демократической фракции в организации военной, для ниспровержения существующего государственного строя. Если позволите, я могу перейти к этому вопросу.
Председатель. — Мы естественным образом к нему подошли.
Головин. — Должен сказать, что по этому вопросу мои сведения не богаты данными. Я думаю, что Следственная Комиссия гораздо больше знает.
Председатель. — Нам важна ваша точка зрения, как вам все это представлялось.
Головин. — Для меня это дело представлялось в определенной форме: весь этот процесс создан был специально для того, чтобы распустить Думу, так как министерство решило ее распустить. Сама Дума повода не давала, стало быть, нужно было придумать повод. И его придумали очень просто. Министерство прибегло к способу создания процесса обвинения социал-демократической фракции в попытке совершить вооруженный государственный переворот. Министерство полагало, что здесь Дума может попасться в ловушку, так как в выдаче так называемых преступников она откажет и, следовательно, с точки зрения министерства совершит незаконный акт, а на этом и создастся повод для ее роспуска. Но тут-то и произошло следующее: когда было предъявлено это обвинение, Дума выбрала комиссию, которая должна была ознакомиться с обвинительным материалом. Такое действие Думы являлось вполне закономерным. Когда комиссия приступила к делу, она натолкнулась, насколько я знаю, на известного рода подлог, поводимому, со стороны судебного следователя. Об этом подлоге я знаю со слов члена комиссии Кузьмина-Караваева, с которым я разговаривал в день роспуска, встретившись с ним случайно перед отъездом в Москву. Кузьмин-Караваев сказал мне совершенно определенно, что главный обвинительный документ был найден, если я не ошибаюсь, на полу в квартире Озоля. Найдена была бумага, и на ней резолюция: «переслать в В. О.». Но в обвинительном акте следователь не написал, что найдена бумага с резолюцией переслать в В. О., а «дешифрировал»: «переслать в Военную Организацию». Это и явилось документом, свидетельствующим о военной организации. Между тем, по мнению членов социал-демократической фракции, эта надпись означала: «переслать в Виленский Отдел социал-демократической партии». И когда из всего материала выяснилось, что, повидимому, само следствие страдает большими дефектами, тогда правительство уже окончательно решило распустить Думу на основании мотивов, выраженных в манифесте о роспуске Думы, и не дожидаясь, чтобы с думской трибуны разбирали судебное следствие и доказывали несостоятельность обвинения.
Председатель. — Не припомните ли вы, среди этого материала не фигурировал ли некоторый документ, который назывался наказом?
Головин. — Нет, материала я сам не видел, в комиссии этой участия не принимал и передавал это исключительно со слов Кузьмина-Караваева. Лично я сам ни этого документа, ни этой надписи не видел.
Председатель. — Но вам не приходилось слышать о том, что этот документ, наказ, принесен был мнимым членом военной организации на квартиру члена Государственной Думы и что он послужил главной уликой против членов Государственной Думы.
Головин. — Нет, в то время я этого не знал и о наказе ничего не слышал.
Председатель. — Какие же данные заставляют вас думать? Тогда вы не обладали тем материалом, которым мы обладаем теперь. Что же заставляло вас думать, что это провокационное дело, что оно создано искусственно с целью дать повод к роспуску Государственной Думы?
Головин. — Главным образом мои впечатления создавались от личных разговоров с членами социал-демократической фракции. Ведь с некоторыми из них я был достаточно близок, хотя бы, например, с Салтыковым. Он был помощником секретаря Государственной Думы, и лично у меня создалось такое впечатление, что обвинение несправедливо, неосновательно, но никаких твердых данных у меня не было.
Председатель. — Скажите, вам не приходилось встречаться тогда по делам Думы с товарищем министра внутренних дел, Макаровым?
Головин. — Нет, кажется, не помню.
Председатель. — А с Крыжановским?
Головин. — С Крыжановским только на заседании Думы.
Председатель. — Тогда не стоял в такой остроте вопрос о провокации вообще и по этому поводу не было у вас никаких бесед с тогдашним правительством?
Головин. — Нет, решительно никаких.
Председатель. — Вопрос об Азефе тогда еще не был поставлен?
Головин. — Не был совсем.
Председатель. — Благоволите теперь рассказать историю ваших аудиенций и укажите на моменты, характерные в политическом отношении для носителя верховной власти, на его отношение к тогдашнему народному представительству того состава и к идее народного представительства вообще.
Головин. — В первую же аудиенцию государь говорил.
Председатель. — Она когда состоялась?
Головин. — Первая происходила 21-го февраля, на следующий же день после открытия Думы. Она была очень непродолжительна. Государь интересовался тем, может ли образоваться работоспособный центр, о котором в то время так много писали и говорили, и на мой утвердительный ответ высказал пожелание успеха Думе. Затем стал говорить об отношении к министерству, указал на то, что для успеха работ Думы важна дружная работа с министерством. На это я, конечно, не без некоторого сомнения должен был ответить, что на такую совместную работу с настоящим составом министерства рассчитывать довольно трудно, так как политические настроения Думы и министерства столь различны, что говорить о дружной совместной работе представляется почти невозможным. После этого государь указал на то, что министерством внесен целый ряд больших, сложных вопросов на рассмотрение Государственной Думы, и если первая Дума оставалась без материала для работы, то вторая находится в обратном положении, что материалов кажется очень много, и при этом он спросил, считаю ли я этот материал подходящим. Так как это происходило всего через несколько часов после того, как я явился в Петербург и материала этого я не видел, я, конечно, на этот вопрос не мог ответить и сказал, что материал будет рассмотрен Думой, что целый ряд законопроектов местного, не принципиального характера, вероятно, может быть решен Думой сравнительно легко и в положительном смысле. Но что касается вопросов серьезных, принципиальных, то едва ли со стороны министерства могут быть представлены удовлетворительные материалы с точки зрения думского большинства. На этом и закончилась беседа политического характера, а дальше она приняла характер не политический. Он вспомнил о приеме Трубецкого, земской депутации, и так далее. Затем, во второй раз, во второй беседе, политическую окраску имело только отношение государя к Думе, как к революционной трибуне.