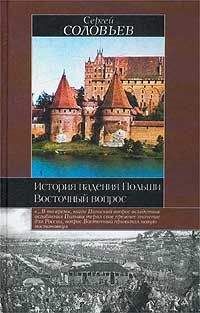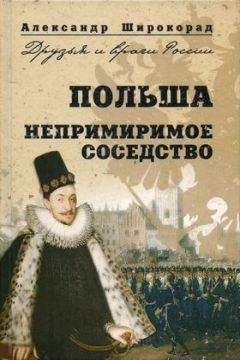Репнин, принужденный прибегнуть к такому сильному средству, как конфедерация, хлопотал, однако, как бы предотвратить беспорядки, потрясения, бывшие обыкновенно следствием конфедерации. По старому обычаю, как скоро конфедерация образовывалась и получала признание, то вдруг все прежние власти переставали действовать; авторитет всех существующих магистратур и юрисдикции исчезал; все подчинялось верховной воле сконфедерованной шляхты; король, сенат, все высшие чиновники и суды должны были отдавать ей отчет. Репнин не хотел на это согласиться: "Понеже напрасно бы я короля тем оскорбил, ибо по нашим видам оное не нужно, а только б дало более власти конфедерации, отмщевая прежние дела по внутренним судам, несправедливости делать. Сверх того, запретив все юрисдикции, запретили б чрез то и комиссии скарбовую и военную, а их поправка хотя точно нужна, но совершенное испровержение мне кажется не авантажно; и тако держусь сколько возможно и противлюсь сему закрытию юрисдикции, а меж тем пользуюсь сим же, угодность и приятство тем делаю королю, которого для переду в преданности я хочу соблюсть к нашему двору, находя за полезное, чтобы не всегда здесь с употреблением силы все делать. Сверх же того должен я и в том по справедливости признаться, что его величество, не входя явным образом в содействование с нами, противностей, однако же, никаких не делает, и хотя с оскорблением иногда и с натуральною просьбой, чтобы друзей его сберегали, но все почти по внутренним здесь моим мерам к исполнению допускает и удерживает преданных себе от безрассудной горячности"29.
Действительно, король допускал все по внутренним мерам русского посла: смертию примаса, князя Лубенского, очистилось первое духовное место в королевстве, архиепископство Гнезенское, и король согласился на желание Репнина возвести Подоского на это место. Репнин был очень доволен. "Возвышение Подоского в примасы великое приумножение нашей инфлюенции здесь сделает, — писал он в Петербург30. — Он (Подоский) открытым образом мне предан был и как бы секретарь мой во всех настоящех обстоятельствах работал; через его же возвышение увидит нация вся, коль мы великолепно награждаем тех, которые нам прямо и усердно служат. Увидит она, что можно совершенно полную доверенность иметь к покровительству нашего высочайшего двора, когда в самое сочинение столь оскорбительной королю конфедерации не мог он отказать первый чин в государстве тому точно, который в угодность России главным и начальным работником в том был".
Между тем к началу июня 1767 года в Литве образовалось уже 24 конфедерации, маршалами которых повсюду выбраны были друзья Радзивилла, а сам он был выбран маршалом подляшской конфедерации. В Польше и Литве конфедерация считала под своими знаменами до 80 000 шляхты. 3 июня Радзивилл, окруженный толпами шляхты, имел торжественный въезд в Вильну, а через три недели после этого провозглашен был генеральным маршалом соединений польско-литовской конфедерации, собравшейся в Радоме (в 15 милях от Варшавы). Но Репнин тотчас же увидал, что этим дело не кончается, а только начинается.
Репнин поднял генеральную конфедерацию, чтобы покончить диссидентское дело: не хотели кончать его король и Чарторыйские, пусть покончат враги их. Но конфедераты откликнулись на приглашение русского несла, имея в виду свергнуть короля и сделать с Чарторыйскими то же, что те сделали с ними во время своего торжества. Начальные люди конфедерации к диссидентскому делу были равнодушны, а толпа была одушевлена тою же нетерпимостию, как и прежде; следовательно, опять Репнин, чтобы преодолеть это тупое сопротивление, должен был прибегать к крайним средствам, к военной силе. Рядом с предложением о правах диссидентов шло предложение о том, чтобы все постановленное на будущем сейме было гарантировано Россией. В Радоме предложения прошли, и то вследствие присутствия русских войск; но в провинциях шляхта волновалась — а что будет на сейме? Краковский епископ Солтык стал в челе религиозного движения: пятнадцать секретарей день и ночь писали его пастырские послания.
"Любезнейшие сыны, пастырству нашему порученные! — гласили послания. — Упражняйтесь во всякого рода добрых делах, взывайте с сокрушением духа к трону милосердия, чтобы ниспослал Духа Святого на сейм для утверждения веры св. католической, для мужественного отпора претензиямдиссидентов, для сохранения кардинальных прав вольности. Чтобы во все продолжение сейма во всех косцелах ежедневно происходило молебствие пред св. тайнами, с пением: Святый Боже!" В этом послании Солтык является перед нами как епископ католический, но в письме к одному из приятелей своих, Виельгурскому, он является как политик. "Императрица, — пишет он, — домогается двух вещей: генерального поручительства и восстановления диссидентов. Гарантировал король Польский курляндские вольности, утвердил привилегии земель прусских, а через это обе нации привлечены были в зависимость от республики. Главное средство отбиться от гарантии — это поднять вопрос, что Турция не позволит. Что касается до диссидентов, то покой нации зависит от того, чтобы диссиденты, а именно не униаты, не были ни в сенате, ни в министерстве; довольно будет припомнить, что в России есть тридцать фамилий, которые ведут свой род из Польши, а раздача достоинств в Польше находится во власти императрицы Русской: так хорошо ли будет, когда сенат Московский перенесен будет в Польшу, а нас передвинут в Сибирь? Главная политика польских недовольных должна состоять в продлении сейма для того: 1) чтобы конфедерация пришла в совершенство; 2) чтобы иностранным дворам дать время к негоциации; 3) чтоб электор (Саксонский) пришел в совершеннолетие; 4) чтобы лучше изъясниться с двором петербургским чрез наших посланников, а не чрез того деспота (Репнина); 5) для слабости короля Прусского: если бы умер, то что бы помешало саксонскому войску войти в Польшу?"
Для большего воспламенения умов в Польше явилось циркулярное письмо к епископам папы Климента XIII против прав диссидентских; на копии письма, пересланной Репниным в Петербург, отмечено тою же рукою, которая писала Наказ: "Куда папа горазд сказки сказывать!" Но что были сказки в Петербурге, тому с благоговением внимали в Польше. "Я не могу довольно изобразить, — писал Репнин, — сколь заражена здешняя нация суеверием и фанатизмом закона, и думаю, что не могло то в сильнейшем градусе быть и во времена самых кроазадов"31. Но кроме фанатизма толпы Репнина приводило в отчаяние двоедушие людей, руководивших толпою: посол видел, что и прежний верный секретарь его, новый примас Подоский, стакнулся с Солтыком, с Красинским (епископом Каменецким), маршалом Мнишком, Потоцким (воеводою Киевским) и подскарбием Весселем; но, действуя заодно, эти люди приезжали к Репнину и Бог знает что наговаривали друг на друга. "Изволите видеть, — писал Репнин, — с сколь честными людьми я дело имею и сколько приятны должны быть мои обороты и поведение, истинно боюсь, чтобы самому, в сем ремесле с ними обращаясь, мошенником наконец не сделаться". Но главным мучителем посла был все тот же Солтык. "Истинно я ему от себя б что ни есть подарил, чтоб он отсель куда-нибудь провалился: надоел уже мне смертельно", — писал Репнин. Однажды приезжают к нему два прелата, Подоский и Солтык, и начинают жаловаться на насилие русских войск во время сеймиков, на арест шляхтича Чацкого, сделанный по приказанию Репнина. "Если мы, — говорит Солтык, — не можем сносить деспотизма собственного короля, то тем менее можем сносить деспотизм иностранной государыни, которая к тому же еще объявляет, что поддерживает нашу свободу". Репнин отвечал ему прямо: "Если вы так смотрите на дело, то объявите войну императрице и ее войскам, собирайте для этого собственные войска". "У меня никогда не было в голове столь страшных и безумных идей, — сказал на это Солтык, — я не хочу даже воевать с посланником императрицы; желаю только для себя и для нации пользоваться высоким покровительством императрицы, дружбою и благосклонностию ее посланника". Во время этого разговора Подоский сидел, не открывая рта32.
Приближалось время сейма. "Если хотим мы успеха на диссидентском деле на будущем сейме, — писал Репнин, — то необходимо надобно будет епископа краковского и подобных фанатиков забрать под караул, а инак с ними никаким образом не совладеем". Получив на это позволение из Петербурга, посол отвечал Панину: "Имею честь отвечать с уверением наикрепчайшим, что без самой крайней необходимости, конечно, пользоваться не буду позволением употреблять меры силы против здешних противников, но признаюсь, что весьма боюсь, чтобы к тому не был принужден"33.
Страх был не напрасный. Солтык разослал по сеймикам письма, в которых объявлял, что и на будущем сейме будет поступать в диссидентском деле точно так же, как и на прошедших; то же самое говорил всем в Варшаве. Репнин поручил Подоскому поговорить дружески Солтыку: чтобы он остерегался; что терпению бывает конец; что перед российскою императрицею он не важный господин; что его могут взять и не выпустить. "Не стану молчать, когда интерес религии потребует моей защиты", — отвечал Солтык. "Сокрушает он меня своим непреодолимым упорством против диссидентского дела, — писал Репнин. — Я уже ему стороной внушал, чтоб он на сейм не ездил, коль не хочет участвовать диссидентскому восстановлению и коль не может воздержаться, чтобы против них не говорить, но и на то не соглашается"34.