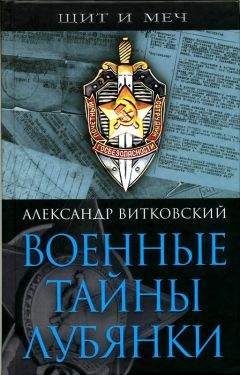«Все, что говорит в своем приказе Сталин, — это неправильно. Никаких успехов на фронте у нас нет. Красная Армия опять начала отступать — сдавать города и села. Немцы скоро начнут бомбить Москву, только с большей силой, чем в 1941 году» (Аксенов, — работник штаба МПВО Молотовского района, беспартийный).
Увы, но и через полтора года, в ноябре 1944 в Москве не стало легче. Об этом свидетельствуют документы, составленные по результатам контроля переписки граждан для выявления реакции жителей Москвы на закрытие вещевых рынков.
Конечно, читать чужие письма безнравственно. Но в годы войны понятие нравственности едва ли не полностью растворяется в страхе, жестокости, ужасе и цинизме. И люди с этим свыкаются, принимая ущемление своих гражданских прав как вынужденное и временное зло.
Одной из таких мер и была перлюстрация (контроль) почтовой корреспонденции. Конечно, официально работа военной цензуры не афишировалась, но люди о ней знали. Впрочем, и политическое руководство воюющей страны можно понять. Именно через личные письма, в которых без утайки, страха и оглядки на посторонний глаз рассказывалось о житье-бытье близким друзьям и родственникам, власть могла узнавать о реальных трудностях населения всей страны и армии. И далеко не всегда эта правда жизни совпадала с приукрашенными отчетами официальных органов. Миллионы писем были тем правдивым зеркалом, в котором руководство видело отражение своих действий.
Механизм перлюстрации был достаточно прост. Письма вскрывались выборочно или поток почтовой корреспонденции просматривался полностью, делались выписки по какому-либо вопросу, а затем составлялись справки, которые под грифом «Совершенно секретно» регулярно докладывались руководству. Кстати, контролерам строжайше запрещалась передавать кому бы то ни было любую информацию, полученную из писем.
«Сов. секретно.
Секретарю московского городского комитета ВКП(б) тов. Попову.
СПЕЦСООБЩЕНИЕ
Военной цензурой с 11 по 25 ноября 1944 г. зарегистрировано 158 писем, содержащих жалобы населения на запрещение ручной продажи на рынках Москвы.
«Жизнь сейчас очень тяжелая и сложная. За комнату и то нечем платить. Бывало, нет денег, сейчас пойдешь на рынок и продашь какую-нибудь свою вещь. А сейчас этого не разрешают. Перед праздником стали разгонять ручную продажу на рынке. Сейчас совсем не показывайся, иначе отберут все и не отпустят. Кусок хлеба и то не купишь. А ведь Юра или же Слава не могут на 300 грамм в день пробыть. Да, становится очень тяжело. И головы не приложишь, как быть. Несчастную свою тряпку и то не продашь, чтобы купить кусок хлеба ребятам» (Ковешникова В. М. — Ковешникову B.C. п/почта 36 923 «Д»).
«У нас в Москве совсем запретили ручную продажу — это очень, очень плохо. Негде купить даже табачку. Так снова станешь ленинградским дистрофиком 3-ей степени, каким я была в 1941–42 году. В настоящий момент, например, у меня нет ни кусочка мыла и я на праздники буду мурзатая, так как рынки ручной продажи ликвидированы, а в магазинах кооперации мыла не выдают. Вот и живи и дыши как хочешь» (Уткина А. М. — Уткину B.C. п/почта 27 899 «Ж»).
«Рынки наши сейчас очень бедны, торговли не разрешают совсем, что способствует подорожанию. Видимо, хотят, чтобы все покупали в коммерческом магазине, а разве там можно купить, если у нас нет сахара, а только десять рублей — пойдешь на базар и купишь на один раз чаю попить. А в магазинах купить — надо иметь самое малое 100 руб., которых у меня никогда не бывает» (Филатова — Филатову А. Я. п. почта 64 074 «В»).
«Милиция закрыла все рынки ручной торговли в Москве. Теперь свои лохмотки и то не можем продать. А получку получаем за две недели 40–50 руб. Как хочешь, так и живи на три кг картошки, а хлеб и паек выкупить нечем» (Громова А. И. — Акимову В. И. п. почта 05 808).
«Мама совершенно обносилась. Нет ни юбок, ни кофт — все в заплатах. Она спереди закрывает юбку фартуком, который тоже в заплатах. Ломаю голову, где бы достать материала, так как все рынки в Москве разогнали, а в коммерческом магазине — не для нас, там настоящая обдираловка (Стасюк Д. Г. — Стасюку В. А. п. почта 82 670 «Т»).
В ту пору трудно жилось всем. Даже студентам с их неизбывным чувством юмора и запасом энергии было не сладко.
«В общежитии пятый день нет света, говорят, отключили на месяц. Пишу письмо на лекции, иначе не напишешь совсем. В институте жуткий холод, мы не можем сидеть в читальне до десяти — замерзаем. В столовой плохо. До конца месяца обеденной карточки не хватает, и сидим только на 550 гр. хлеба. Очень жалко уезжать, но не знаю, что делать» (А. Н. — Ноздрину А. Н., г. Орел).
«Общежитие очень плохое: нет ни кроватей, ни матрацев, ни света, ни тепла. Я валяюсь на полу, стелю брюки, пальто и пиджак. Варить не в чем, да и нечего. В столовой питаюсь один раз в сутки, питание очень плохое: три ложки щей и две ложки картошки. Денег, чтобы что-нибудь купить, у меня нет. Вот и все мое положение» (Рожнов Н. — Рожновой М. М., г. Рузаевка).
Конечно, такие письма, отправленные на фронт, не поднимали боевой дух солдат и офицеров. Поэтому военная цензура либо вымарывала негативную информацию, либо просто изымала и уничтожала письма.
Сегодня публикация архивных материалов НКВД о том, что говорили москвичи, что писали своим родственникам и друзьям могут вызвать бурю возмущения. Какое право имели спецслужбы нарушать тайну переписки или вмешиваться в личную жизнь, подслушивая и подглядывая за тем, что говорят и делают люди? Даже война не может служить оправданием безнравственным методам работы спецслужб!
Но в наши дни полстраны прильнуло к застеколью своих телеэкранов, не просто подглядывая и подслушивая, а рассматривая сквозь увеличивающую оптику и усиливающую радиоаппаратуру частную жизнь подопытных молодых и не очень людей в различных реалити шоу. И мало кто вспоминает, что это не только безнравственно, а просто мерзко.
А кому из нас не приходилось волей-неволей слышать в автобусе или троллейбусе чужие разговоры по мобильнику? Чего только тут не узнаешь. И семейные тайны, и коммерческие секреты и даже интимные подробности личной жизни…
Может быть, хотя бы это отчасти дает нам моральное право снять гриф «Совершенно секретно» с документов о том, что говорили и писали жители столицы в годы военного лихолетья более полувека назад. И не ради праздного любопытства мы публикуем в нашей книге эти архивные материалы, а чтобы глубже понять, почему в те страшные годы наш народ не только выстоял, но и победил.
А еще для того, чтобы помнить…
Необыкновенный дневник обыкновенного жителя блокадного Ленинграда
Вечером 27 января 1944 года ленинградское небо осветилось тысячами разноцветных огней. За многие месяцы люди впервые радовались грохоту артиллерийской канонады — ведь это был салют в честь окончательного снятия блокады.
И вот совсем недавно, более чем через полвека после окончания войны, в архивах Петербургского управления ФСБ был найден удивительный документ.
Автор этой потрясающей летописи — обыкновенный ленинградский житель Николай Павлович Горшков. Все 29 блокадных месяцев день за днем (не пропустив ни одного!) он записывал трагические события из жизни осажденного города. Нет, это не были официальные сводки «Совинформбюро» или цитаты из газетных публикаций. Он записывал то, чему сам был свидетелем, что видел или слышал на улицах, во дворах и квартирах блокадного Ленинграда.
Ему повезло дожить до Победы, но в декабре 1945 года его арестовали и осудили на 10 лет. Умер он в лагере 6 лет спустя. Где похоронен — неизвестно.
Этот очерк написан в память о нем, в память о тысячах ленинградцев, погибших в те страшные годы.
Но прежде несколько слов о самом документе и его авторе.
Его дневник — шесть небольших тетрадок в клеточку, сшитых черной суровой ниткой — написан четким, легко читаемым почерком. Он был приложен к делу № 62 625 на Горшкова Николая Павловича, 1892 года рождения, уроженца Угличевского района, деревни Выползово, русского, беспартийного, старшего бухгалтера Ленинградского института легкой промышленности. Фигурант дела подозревался в совершении преступлений по ст. 58–10 ч.11 (антисоветская агитация) и 58–11 (организованная антисоветская деятельность) УК РСФСР. Но, судя по документам, дело Горшкова шло туго. Путались или отказывались от своих показаний свидетели, не признавал свою вину и сам обвиняемый. Материалы дважды отправлялись на доследование, но все же после восьми месяцев заключения Николай Павлович был осужден.
Подсудимый будто знал, что дневник переживет его, и попросил приобщить свои записки к уголовному делу. Впрочем, не исключено, что он надеялся на снисхождение советской юстиции — к пережившим блокаду ленинградцам после войны все относились с сочувствием и уважением. Но дневник был обойден вниманием следователя, которого не интересовали сугубо личные записи.