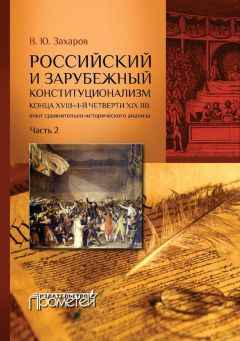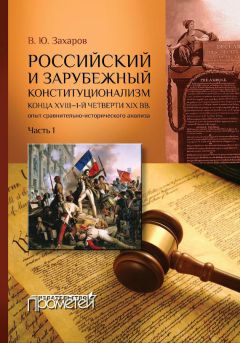Если собственно летописные статьи являлись порождением своего времени, носили на себе печать «стиля эпохи», были выдержаны в традициях стиля монументального историзма, то вошедшие в состав летописи устные легенды отражали иную — эпическую традицию и, естественно, имели иной стилистический характер. Стиль народных преданий, включенных в летопись, Д. С. Лихачев определил как «эпический стиль».[67]
«Повесть временных лет», где рассказ о событиях современности предваряется припоминаниями о деяниях славных князей прошлых веков — Олега Вещего, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, сочетает оба эти стиля.
В стиле монументального историзма ведется, например, изложение событий времени Ярослава Мудрого и его сына — Всеволода. Достаточно напомнить описание битвы на Альте (ПВЛ, с. 97–98), принесшей Ярославу победу над «окаянным» Святополком, убийцей Бориса и Глеба: Святополк пришел на поле боя «в силе тяжьце», Ярослав также собрал «множьство вой, и изыде противу ему на Льто». Перед битвой Ярослав молится богу и своим убитым братьям, прося их помощи «на противнаго сего убийцю и гордаго». И вот уже войска двинулись навстречу друг другу, «и покрыша поле Летьское обои от множьства вой». На рассвете («въсходящу солнцу») «бысть сеча зла, яка же не была в Руси, и за рукы емлюче сечахуся, и сступашася трижды, яко по удольемь [долинам, ложбинам] крови тещи». К вечеру Ярослав одержал победу, а Святополк бежал. Ярослав вступил на киевский престол, «утер пота с дружиною своею, показав победу и труд велик». Все в этом рассказе призвано подчеркнуть историческую значительность битвы: и указание на многочисленность войск, и детали, свидетельствующие об ожесточенности битвы, и патетическая концовка — Ярослав торжественно восходит на киевский престол, добытый им в ратном труде и борьбе за «правое дело».
И в то же время оказывается, что перед нами не столько впечатления очевидца о конкретной битве, сколько традиционные формулы, в которых описывались и другие сражения в той же «Повести временных лет» и в последующих летописях: традиционен оборот «сеча зла», традиционна концовка, сообщающая, кто «одоле» и кто «бежа», обычно для летописного повествования указание на многочисленность войск, и даже формула «яко по удольемь крови тещи» встречается в описаниях других сражений. Словом, перед нами один из образцов «этикетного» изображения битвы.[68]
С особой заботой выписывают создатели «Повести временных лет» некрологические характеристики князей. Например, по словам летописца, князь Всеволод Ярославич был «издетьска боголюбив, любя правду, набдя убогыя [заботился о несчастных и бедных], въздая честь епископом и презвутером [попам], излиха же любяше черноризци, и подаяше требованье им» (ПВЛ, с. 142). Этот тип летописного некролога будет не раз использован летописцами XII и последующих веков.[69] Применение литературных формул, предписываемых стилем монументального историзма, придавало летописному тексту особый художественный колорит: не эффект неожиданности, а, напротив, ожидание встречи со знакомым, привычным, выраженным в «отшлифованной», освященной традицией форме, — вот что обладало силой эстетического воздействия на читателя. Этот же прием хорошо знаком фольклору — вспомним традиционные сюжеты былин, троекратные повторы сюжетных ситуаций, постоянные эпитеты и тому подобные художественные средства. Стиль монументального историзма, таким образом, не свидетельство ограниченности художественных возможностей, а, напротив, свидетельство глубокого осознания роли поэтического слова. Но в то же время этот стиль, естественно, сковывал свободу сюжетного повествования, ибо стремился унифицировать, выразить в одинаковых речевых формулах и сюжетных мотивах различные жизненные ситуации.
Для развития сюжетного повествования сыграли значительную роль закрепленные в летописном тексте устные народные предания, отличающиеся каждый раз необычностью и «занимательностью» сюжета. Широко известен рассказ о смерти Олега, сюжет которого был положен в основу известной баллады А. С. Пушкина, рассказы о мести Ольги древлянам и т. д. Именно в подобного рода преданиях героями могли выступать не только князья, но и незначительные по своему социальному положению люди: старик, спасший белгородцев от гибели и печенежского плена, юноша-кожемяка, одолевший печенежского богатыря. Но главное, пожалуй, в другом: именно в подобных летописных рассказах, которые генетически являлись устными историческими преданиями, летописец использует совершенно иной — сравнительно с рассказами, написанными в стиле монументального историзма, — метод изображения событий и характеристики персонажей.
В произведениях словесного искусства существуют два противоположных приема эстетического воздействия на читателя (слушателя). В одном случае художественное произведение воздействует именно своей непохожестью на обыденную жизнь и, добавим, на «бытовой» рассказ о ней. Такое произведение отличает особая лексика, ритм речи, инверсии, особые изобразительные средства (эпитеты, метафоры) и, наконец, особое «необыденное» поведение героев. Мы знаем, что люди в жизни так не говорят, так не поступают, но именно эта необычность и воспринимается как искусство.[70] На этой же позиции стоит и литература стиля монументального историзма.
В другом случае искусство как бы стремится уподобиться жизни, а повествование стремится к тому, чтобы создать «иллюзию достоверности», наиболее приблизить себя к рассказу очевидца. Средства воздействия на читателя здесь совершенно иные: в подобного рода повествовании играет огромную роль «сюжетная деталь», удачно найденная бытовая подробность, которая как бы пробуждает у читателя его собственные жизненные впечатления, помогает ему увидеть описываемое своими глазами и тем самым поверить в истинность рассказа.
Тут необходимо сделать существенную оговорку. Такие детали нередко называют «элементами реалистичности», но существенно, что если в литературе нового времени эти реалистические элементы являются средством для воспроизведения реальной жизни (и само произведение призвано не только изобразить действительность, но и осмыслить ее), то в древности «сюжетные детали» — не более чем средство создать «иллюзию действительности», так как сам рассказ может повествовать о легендарном событии, о чуде, словом, о том, что автор изображает как действительно бывшее, но что может и не являться таковым.[71]
В «Повести временных лет» исполненные в этой манере рассказы широко используют «бытовую деталь»: то это уздечка в руках отрока-киевлянина, который, притворяясь ищущим коня, пробегает с ней через стан врагов, то упоминание, как, испытывая себя перед поединком с печенежским богатырем, юноша-кожемяка вырывает (профессионально сильными руками) из бока пробежавшего мимо быка «кожю с мясы, елико ему рука зая», то подробное, детальное (и искусно тормозящее рассказ) описание, как белгородцы «взяша меду лукно», которое нашли «в княжи медуши», как разбавили мед, как вылили напиток в «кадь», и т. д. Эти подробности вызывают живые зрительные образы у читателя, помогают ему представить описываемое, стать как бы свидетелем событий.
Если в рассказах, исполненных в манере монументального историзма, все известно читателю заранее, то в эпических преданиях рассказчик умело использует эффект неожиданности. Мудрая Ольга как бы принимает всерьез сватовство древлянского князя Мала, втайне готовя его послам страшную смерть; предсказание, данное Олегу Вещему, казалось бы, не сбылось (конь, от которого князь должен был умереть, уже погиб сам), но тем не менее кости этого коня, из которых выползет змея, и принесут смерть Олегу. На поединок с печенежским богатырем выходит не воин, а отрок-кожемяка, к тому же «середний телом», и печенежский богатырь — «превелик зело и страшен» — посмеивается над ним. И вопреки этой «экспозиции» одолевает именно отрок.
Очень существенно отметить, что к методу «воспроизведения действительности» летописец прибегает не только в пересказе эпических преданий, но и в повествовании о событиях ему современных. Пример тому — рассказ «Повести временных лет» под 1097 г. об ослеплении Василька Теребовльского (с. 170–180). Не случайно именно на этом примере исследователи рассматривали «элементы реалистичности» древнерусского повествования, именно в нем находили умелое применение «сильных деталей», именно здесь обнаруживали мастерское применение «сюжетной прямой речи».[72]
Кульминационным эпизодом рассказа является сцена ослепления Василька. По пути в отведенную ему на Любечском княжеском съезде Теребовльскую волость Василько расположился на ночлег недалеко от Выдобича. Киевский князь Святополк, поддавшись уговорам Давида Игоревича, решает заманить Василька и ослепить его. После настойчивых приглашений («Не ходи от именин моих») Василько приезжает на «двор княжь»; Давид и Святополк вводят гостя в «истобку» (избу). Святополк уговаривает Василька погостить, а испуганный сам своим злоумышлением Давид, «седяше акы нем». Когда Святополк вышел из истобки, Василько пытается продолжить разговор с Давидом, но — говорит летописец — «не бе в Давыде гласа, ни послушанья [слуха]». Это весьма редкий для раннего летописания пример, когда передается настроение собеседников. Но вот выходит (якобы для того, чтобы позвать Святополка) и Давид, а в истобку врываются княжеские слуги, они бросаются на Василька, валят его на пол. И страшные подробности завязавшейся борьбы: чтобы удержать могучего и отчаянно сопротивляющегося Василька, снимают доску с печи, кладут ему на грудь, садятся на доску и прижимают свою жертву к полу так, «яко персем [груди] троскотати», — и упоминание, что «торчин Беренди», который должен был ослепить князя ударом ножа, промахнулся и порезал несчастному лицо — все это не простые детали повествования, а именно художественные «сильные детали», помогающие читателю зримо представить страшную сцену ослепления. Рассказ по замыслу летописца должен был взволновать читателя, настроить его против Святополка и Давида, убедить в правоте Владимира Мономаха, осудившего жестокую расправу над невинным Васильком и покаравшего князей-клятвопреступников.