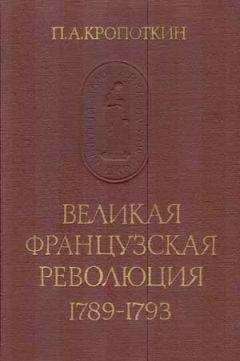27 апреля народ, раздраженный сопротивлением и словами богатого фабриканта, стал носить по улицам его чучело, чтобы судить его и сжечь на площади Грэвы, причем на площади Пале-Рояля распространился слух, что третье сословие присудило Ревельона к смерти. Но с наступлением вечера толпа рассеялась и только всю ночь наводила страх на богатых своими криками. Наконец, на следующее утро, 28-го, толпа явилась к фабрике Ревельона и принудила рабочих бросить работу; затем она взяла приступом самый дом Ревельона и разграбила его. Явились войска, но народ сопротивлялся, бросая из окон и с крыш что попало: камни, черепицы, мебель. Тогда войска стали стрелять, а народ ожесточенно защищался в течение нескольких часов. В результате оказалось 12 убитых и 80 раненых солдат, а со стороны народа — 200 убитых и 300 раненых. Рабочие завладели трупами своих убитых братьев и понесли их по улицам предместья.
Несколько дней спустя в Вильжюифе собралась толпа, человек с 500 или 600, и пыталась взломать ворота Бисетрской тюрьмы.
Так началось первое столкновение между парижским народом и богатыми, и оно произвело сильное впечатление. Это было первое появление на улице народа, доведенного до ожесточения; и призрак ожесточенной толпы глубоко повлиял на выборы, удалив от них реакционные элементы.
Нечего и говорить, что господа буржуа попытались выставить этот бунт делом врагов Франции. «Разве мог добрый парижский народ восстать против фабриканта?» — «Они подкуплены были английскими деньгами», — говорили одни. — «Недаром на некоторых из убитых оказались деньги!» — «Деньги принцев», — говорили революционеры из буржуазии. И никто не хотел понять, что народ взбунтовался просто потому, что он страдал и что ему надоело терпеть высокомерие богатых, оскорбляющих даже самые его страдания![24]
Таким образом, тогда же начала складываться мало-помалу легенда, которая впоследствии пыталась свести всю революцию к ее парламентской деятельности, а все народные восстания первых четырех лет революции выставляла случайными явлениями: делом разбойников или же агентов, находившихся на жалованье у английского министра Питта или у реакции. Впоследствии эту легенду стали повторять и историки: «Так как этот бунт мог быть использован двором как предлог, чтобы отложить открытие Генеральных штатов, следовательно, он мог быть только делом реакции». Сколько раз сталкивались мы с подобными же рассуждениями и в наши дни!
В действительности дни 24–28 апреля — предвестники дней 8–14 июля. С этого времени парижский народ проявляет свой революционный дух, зарождающийся в рабочих слоях предместий. Рядом с садами Пале-Рояля, которые стали революционным клубом буржуазии, вставали рабочие предместья — центры народного восстания. С этого момента Париж становится очагом революции, и взор Генеральных штатов, имеющих собраться в Версале, будет обращен с надеждою к Парижу. В нем будут они искать той силы, которая поддержит их и будет толкать их вперед, к борьбе за выставленные ими требования, против козней двора.
4 мая 1789 г. тысяча двести народных представителей, собравшись в Версале, присутствовали в церкви Св. Людовика на молебне по случаю открытия Генеральных штатов, а на другой день король в присутствии многочисленной публики открыл заседание. И уже в этом первом заседании почувствовалась вся неизбежность трагедии, которою должна была стать революция.
Король прежде всего отнесся с полным недоверием к созванным им народным представителям. Он согласился наконец созвать их; но он жаловался перед теми же представителями на «беспокойство в умах» и на всеобщее брожение, точно это беспокойство было нечто искусственное, а не было вызвано самим положением дел во Франции; точно это собрание было не что иное, как бесполезное и произвольное нарушение королевских прав.
Поставленная в течение долгого времени в невозможность провести какие бы то ни было реформы, Франция чувствовала теперь потребность в полном пересмотре всех своих учреждений, а король говорил лишь о нескольких легких изменениях в системе финансов, для которых достаточно будет небольшой экономии в расходах. Он хотел «согласия между сословиями», в то время как провинциальные собрания уже показали, что самое существование отдельных сословий отжило свой век в умах, что оно не более как балласт, как пережиток прошлого. И тогда, когда являлась необходимость всеобщего преобразования, король опасался главным образом «нововведений»! В его речи уже намечалась, таким образом, борьба не на жизнь, а на смерть, которая скоро должна была завязаться между королевским самовластием и народным представительством.
Что касается до народных представителей, то существовавший уже среди них самих раскол служил предвестником того глубокого разделения, которое прошло впоследствии через всю революцию: раскол между теми, кто старался удержать свои привилегии, и теми, кто стремился их уничтожить.
Наконец, здесь был заметен и основной недостаток национального представительства. Народ совершенно не был представлен в нем; крестьяне отсутствовали. Буржуазия бралась говорить от имени всего народа; а что касается до крестьян, то в этом собрании, составленном из юристов, законников, адвокатов, было всего, может быть, пять или шесть человек, знавших истинное или даже только правовое положение громадной массы крестьянства. В качестве горожан они умели защищать интересы городских жителей; но что касается крестьян, то они даже не знали, что им полезно и что им вредно.
Гражданская война уже ясно намечается в этом первом заседании, где король, окруженный дворянами, обращается к третьему сословию как повелитель и попрекает его своими «благодеяниями». Истинные желания короля обнаружил в своей речи хранитель печати Барантен, настаивавший главным образом на том, какою ролью должны ограничиться Генеральные штаты. Они будут обсуждать налоги, которые им предложат, они займутся пересмотром гражданских и уголовных законов, выработают закон о печати, которую необходимо обуздать ввиду вольностей, присвоенных ею за последнее время. Вот и все. Не нужно опасных реформ: «Справедливые требования удовлетворены; король не захотел обращать внимания на слишком нескромные выражения недовольства и соблаговолил отнестись к ним снисходительно; он простил даже выражение тех ложных и крайних взглядов, под прикрытием которых стремятся ввести опасные химеры взамен незыблемых принципов монархии. Вы, господа, отвергнете с негодованием эти опасные нововведения».
Вся борьба последующих четырех лет заключается в этих словах, и речь Неккера, говорившего после короля и хранителя печати, — речь, продолжавшаяся три часа, нисколько не подвинула вперед ни существенного вопроса о представительном правлении, занимавшем буржуазию, ни вопроса о земле и феодальных повинностях, интересовавших крестьян. Хитрый контролер финансов сумел проговорить целых три часа так, чтобы не скомпрометировать себя ни в глазах двора, ни в глазах народа.
Король, по-прежнему верный взглядам, высказанным им еще Тюрго, совершенно не понимал глубокой серьезности этой минуты. Он предоставлял королеве и принцам вести их интриги с целью помешать тем уступкам, которых от него требовали. Но и Неккер также не понимал, что дело шло не только о финансовом, но и о глубоком политическом и социальном кризисах и что при таких условиях политика лавирования между двором и третьим сословием неизбежно окажется гибельной. Он не видел, что если еще не поздно предотвратить революцию, то нужно в таком случае выступить с открытой политикой уступок в вопросах управления и поставить, хотя в общих чертах, существенный вопрос — вопрос земельный, так как от него зависит нищета или благосостояние целого народа.
Какой же другой выход был возможен при таких условиях, как не столкновение и не борьба? Народные бунты, крестьянское восстание и восстание рабочих и вообще бедноты в городах — одним словом, революция со всею взаимною ненавистью партий, со страшными столкновениями интересов, с ее актами мести и взаимного устранения!
В течение пяти следующих недель депутаты третьего сословия пытались путем переговоров склонить депутатов двух других сословий к тому, чтобы заседать вместе, в то время как роялистские комитеты агитировали, чтобы удержать разделение между сословиями. Переговоры ни к чему не приводили. Но тем временем поведение народа в Париже становилось все более и более угрожающим. Пале-Рояль, превратившийся в клуб на открытом воздухе, куда все имели доступ, возбуждался все больше и больше. Брошюры сыпались изо дня в день, и их читали нарасхват. «Каждый час появляется новая брошюра, — писал Артур Юнг, — сегодня их вышло тринадцать, вчера — шестнадцать, а на прошлой неделе — девяносто две. Девятнадцать из двадцати говорят в пользу свободы… Брожение превосходит всякое воображение». Ораторы обращаются с речами к толпе, стоя на стульях около кафе, и уже говорят о том, чтобы захватить дворцы и замки. Слышатся уже угрозы террора, а в Версале у дверей Национального собрания каждый день собираются толпы народа, чтобы выражать свое озлобление против аристократов.