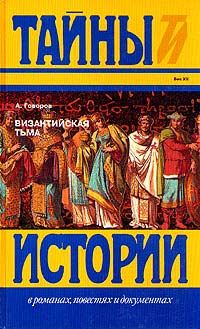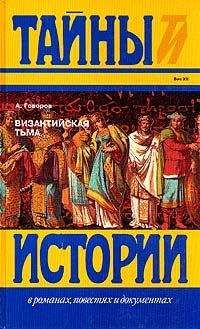— Отвечай! — театрально-надменным голосом вопросил тот (надменность ведь тоже надо выработать). — Не ты ли утром, как доложили нам стражи уха, болтал, будто во Львином рву живет праведник, которого звери голодные, а не грызут?
— Так, так, всесветлейший… — горестно признался уничиженный эпарх.
— А если так, отвечай, а почему он праведник?
Эпарх, окончательно онемев, развел руками. Но за него ответил сам грозный патриарх — как, а разве не известно из Книги пророков? Дам тебе я дар праведничества, и не тронет лев рыкающ и пес алчущ.
Все молчали, ожидая, что последует дальше. А бедный Мехитариу, проклиная себя за несдержанный язык, пал лбом на плиты пола.
Верховный паракимомен усмехнулся, понимая его состояние, но медлил с решением, зная по опыту, что момент, когда удается держать в повиновении столь вулканическое общество, как императорский двор, краток и преходящ. Поэтому он медлил, как бы приучая двор к мысли, что хозяином здесь отныне будет только он, всемогущий паракимомен. Даже протянул ладонь, и обслуживающие евнухи поспешили вложить в нее чашу с апельсиновым питьем. Он долго пил, потом обтирал чувственные губы, а все в напряжении смотрели на него.
— Встань! — повелел он эпарху. — Бери людей, отправляйся во Львиный ров. Мы желаем видеть его тут. Если не помогли врачи, не помогло святое причастие, быть может, исцелит праведник.
Кесарисса Маруха, чувствуя, что теряет инициативу, хлопнула в ярости ладонью, а император, ее отец, вздрогнул. Эти паракимомены, а с ними и латинские обезьяны, присваивают себе даже право находить праведников! О, безбожники!
Трещали свечи, придворные в негнущихся одеяниях стояли как истуканы, а умирающий снова закрыл глаза.
И снились ему сны. Будто он совсем еще младенец и одели его, как девочку, в розовое платьице. И молодая мать счастливо смеется над ним и жалеет, что он у нее действительно не девочка, чтобы можно было заплести косички.
А вот другое виденье. Он уже в седле боевого коня, первая борода у него побрита и царственный отец послал его налаживать связи с крестоносцами Иерусалимского королевства. Стремя к стремени с ним принц Андроник, его двоюродный брат, друг бесценный — это теперь он злейший враг! Оба счастливые и молодые, оба жаждущие подвигов и славы.
Кругом реют флаги всех рыцарских домов Европы, от сумрачного Альбиона до синеглазого Сорренто. Вокруг вымпела, бубны, славословия. Охрипшие от вина и боевых кликов глотки рыцарей не смолкают. Еще бы — вновь заключенному союзу крестоносной Палестины и священного Второго Рима никакие агаряне не страшны!
На главную площадь выезжает какой-то храмовник или иоаннит, закован в металл, словно надгробный памятник. А меж ног у него целый гиппопотам, не лошадь. А вернее, даже адский единорог. И перед диковинной мощью этого всадника почтительно стихает рев толпы.
— Эгей, Андроник! — шепчет другу царевич. Он чувствует, что некая волна решимости его подхватила и нет ему более спасенья. — Послушай, дружище, где твой латинский доспех, который ты купил по дороге сюда, в Алеппо?
— Он неподалеку, в обозе, а что?
— Прикажи его быстренько сюда доставить. Мы ведь с тобою одного роста…
— Как? — Андроник с удивлением и завистью смотрит на товарища и соперника детских игр. — Неужели ты с этим монументом… Но ты же сын царя, императорский посол, имеешь ли ты, наконец, право…
— Я так хочу, — упрямо говорит Мануил, и не подозревая тогда еще, что эти слова ( «Я так хочу!») станут девизом всего последующего тридцативосьмилетнего его царствования.
И вот он, напялив на себя гремучие жестянки (так презрительно они, византийцы, обычно отзывались о крестоносном вооружении), украсившись белой как снег полотняной мантией, выезжает навстречу спесивому противнику, как какой-нибудь новый граф Роберт Парижский или Ричард Львиное Сердце.
Опускаем дальнейшие подробности — увы, лавры Вальтера Скотта нам не по плечу! — Скажем, что в конце концов, крепко зажмурившись от всей этой передряги и творя молитву Господню, царевич мчится на врага, сжимая копье, толстое, словно бревно. И Господь своему верному помогает. В решительный момент у страшного бегемота лопается подпруга, и он, как железная бочка, с позором валится на песок.
И от этих воспоминаний, от этой юности веселой жизнь словно бы вновь вскипает, возрождается по капле… Столь мерзко кругом, столь погано, что не хочется и глаз открывать — пусть считают мертвым. Откроешь — а они все тут, шелестят хитиновой чешуей!
— Ты уходишь, величайший, непостижимейший, а нас, рабов твоих, оставляешь? Пенсию синклитикам твоим ты так и не повысил, зато наоборот — иностранцев мерзких обещал налогом обложить, так и не подумал, они теперь и станут богатеть твоею милостию!
А был он щедрым, незлобивым, всегда приветлив, ясен душою. Придворные подхалимы восславили царствование его как Золотой Век Второго Рима.
В порфировой зале он не родился, потому и не считался багрянородным. По происхождению второстепенный царевич сбоку династии. Сколько же стоило ему непотопляемости и ориентировки, чтобы в конечном счете оттолкнуть других и сесть на Высокий Престол!
Историк позднее напишет: мужая, стал груб, нетерпим. Деньги утекали, как в море. Был влюбчив, обожал пировать с разгульными товарищами. Суеверен, однажды задержал отплытие целого флота из-за неблагоприятного гороскопа и потерпел поражение. Впрочем, поражений в его царствование было больше, чем побед, но блеск и сияние его престола были так велики, что вся его эпоха казалась беспрерывной победой.
О Господи! Но он же первым не щадил себя во имя дела! В походе спал с солдатами на земле. При осаде Дорилей, словно простой ратник, таскал на собственных плечах метательные камни.
Когда же из Палестины доставили ему в подарок подлинную плиту от Гроба Господня, он сам поднял эту махину и отнес во дворец. А было ему тогда уже куда как больше шестидесяти лет! Теперь завещал положить ее на могилу себе самому.
Слабого усиливал, сильного ослаблял. Фридриха Барбароссу, германского короля, довел до хронической неврастении, не пуская его в Рим. Папа, сам трусливый без меры, сильно опасался этого грубияна Барбароссу. Мануил растравливал его воображение двусмысленными письмами, и папа, пока был жив, так и не пустил всемогущего короля за стены Вечного Города! Всяк, кому угодно, входил в Рим и выходил, но не Фридрих, хотя его рыцари наводняли Италию. А ведь без посещения Вечного Города Барбаросса не мог принять титула «император». Впрочем, как и череда его властолюбивых предшественников, Мануил твердо полагал, что император во вселенной может быть только один — в Византии!
Да и вообще недолюбливал западных людей — нетонкие они, неделикатные, высокомерные, вечно кровожадные.
Да, был без меры добродушен, отдавался разным цирковым плясуньям, подчинялся дворцовым евнухам, делая их богачами. Грешен — любил роскошь, яства, игру на цитре (кифаре, гитаре). Но трудился без устали, ничего не передоверял фаворитам, сам до полуночи перелистывал все бумаги. Встретит в поле пахаря, спешится, просит позволения хоть за рукоятку плуг подержать.
И теперь жизнь долгая и бурливая приближалась к концу. Ворчливый патриарх Феодосий, который, кстати, и держался-то только на личном благоволении императора, пенял ему, что еретикам послабляет, разным павликианам, манихеям. А когда учредил Мануил монастырь, где все монахи обязаны были трудиться, ибо сказано: не трудящийся да не ест, он же, Феодосий, первым обвинил императора в искажении апостольского догмата.
Но вот постепенно лежащий с закрытыми глазами император сквозь свои видения или сны стал ощущать какой-то неприятный запах. Более того — просто непереносимый запах. И без того в пространстве, где разлит елей, густой, как мед, дышать было нечем, а тут еще вонь несусветная, какая бывает на рыбных рынках или пристанях, где скапливаются остатки улова, только еще гаже. Человек военный нашел бы сходство с неубранными трупами на полях сражений. Действительно, так может пахнуть покойник, которого не хоронят много дней.
И гнев его охватил — что же это? Нет больше, что ли, в столице бань и ванных заведений? Как смеет этот дурно пахнущий входить к нему, ощупывать его зачем-то, склоняться над ним так, что его тень ползала по сомкнутым векам лежащего императора? Мануилу стало себя жалко, захотелось плакать и жаловаться кому-нибудь, что умереть спокойно не дают. И хотя он твердо знал, что может встать и пойти, решил назло: лежать и лежать, продолжая изображать покойника.
Вдруг раздался яростный звон разбитого стекла и крик ужаса всего придворного синклита. Мануил, не открывая глаз, понял: это центральное окно абсиды, которое он сам же украшал драгоценным витражом, привезенным из похода. Хозяйственная душа царя затрепетала. Да что же это у них тут творится? А вот и боковой витраж зазвенел стеклянным водопадом. На Мануила обрушился свежий прохладный воздух как живительный поток, ничего больше, ни елея, ни рыбной, ни трупной вони — ничего!