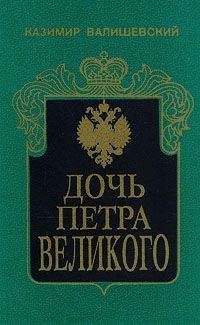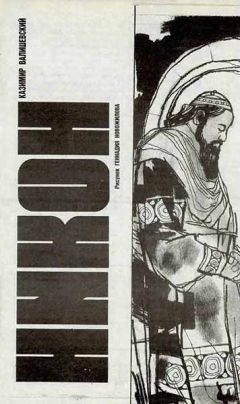Антагонизм между официальной и секретной дипломатиями проявился в данном случае лишь в одном пункте. Соглашаясь, в интересах мира, отказаться от Восточной Пруссии, Россия, как я говорил выше, хотела прежде поставить эту уступку в зависимость от той поддержки, которую Франция оказала бы ей в ее намерениях относительно польской Украины. Барон Бретейль, связанный секретною инструкцией и имея полное основание думать, что она совпадает с чувствами самого Шуазеля, решительно отверг это условие. А между тем Франция, смотревшая прежде очень недоброжелательно на честолюбивые планы России, уже не могла теперь, конечно, относиться к ним с безусловной непримиримостью. Она готова была даже помогать им и соглашалась пожертвовать для этого Польшей, если только можно было купить мир этой ценой. В последних инструкциях, привезенных к Бретейлю Фавье, Шуазель высказывался по этому поводу вполне откровенно, и было ясно, что министр готов действовать без всяких колебаний или угрызений совести по отношению к Польше. В инструкциях было сказано, что король «будет с удовольствием содействовать желаниям императрицы, чтобы побудить Речь Посполитую согласиться на намерения, которые ее величество могла бы иметь относительно установления новых границ». Это было решенное дело. Но при этом Шуазель делал формальную оговорку, что вопрос об Украине не должен быть поставлен открыто при переговорах о мире. Он должен послужить впоследствии предметом особого соглашения. Надо было соблюсти декорум и приличия по отношению к Европе. Поэтому Бретейль очень горячо восстал против того, чтобы указанное выше условие было включено в «план» мирных переговоров и добился своего. В окончательной редакции русского документа об этом условии не упоминалось ни словом. Россия без дальнейших объяснений отказывалась от Восточной Пруссии и давала весьма недвусмысленное доказательство своей искренности, послав немедленно приказ Бутурлину не щадить больше провинцию. Взамен Пруссии Россия рассчитывала получить другое «равносильное» вознаграждение, не указывая, впрочем, какое именно. Польше угрожало таким образом быть съеденной во всяком случае, но пока на ее участь стыдливо набрасывали покров и этим давали ей слабую надежду спасения.
Это было все-таки маленькой победой, достигнутой в интересах Речи Посполитой и ее защитников, и, как она ни скромна, я готов был бы поставить ее в заслугу секретной дипломатии, если б меня не останавливало следующее. Известие об уступке, которой добился Бретейль, еще не пришло в Париж, когда он получил от герцога Шуазеля вышеупомянутую депешу от 2 марта, где говорилось, что эта уступка бесполезна. Французский министр готов был принять русский план в его первоначальной редакции. Он соглашался принести Польшу в жертву перед лицом всего света. Что же сделал барон Бретейль? Обратился ли он за разъяснениями к королю и к секретной дипломатии? Нет. Он решил, что если между теми двумя лабораториями, где вырабатывалась внешняя политика его родины, и существовало прежде разногласие, то теперь оно, к счастью, уничтожалось последней нотой министра, и, быстро изменив позицию, завел с Воронцовым новый разговор. Он хорошо понимал те соображения, которыми руководился его начальник; это видно по его письму: «Самое сильное желание России — это увеличить свои владения за счет Польши со стороны Украины, и мы можем и должны извлечь отсюда большую выгоду… Поляки не будут очень довольны, и турки могут сильно рассердиться; но, конечно, эти соображения должны уступить перед тем преимуществом, которое мы можем получить, обеспечив себе возвращение наших владений в Америке, — или, по крайней мере, облегчив его».
Людовик XV, правда, отверг эту сделку и, победив свою лень, даже сам взялся за перо. В письме от 8 июня 1761 г. барон Бретейль получил от короля довольно резкие упреки и странный, но решительный приказ приложить все свои усилия к тому, «чтобы вернуть герцога Шуазеля к более благоприятным по отношению к Польше принципам, нежели те, которые он имел теперь». Намерение короля было безусловно похвальное, но, к сожалению, оно сильно запоздало. В том единодушном соглашении с Россией, над созданием которого дружно работали и французский министр, и посол короля за счет несчастной Польши, за последнее время не все шло гладко. Виновницей разногласия была, как и прежде, Россия. Воронцов был продажный, но в известном смысле все-таки честный человек. Такие люди встречаются нередко в некоторых странах и на известных ступенях цивилизации. Русский канцлер был одним из тех представителей своей родины, которые всегда отворачиваются от крайнего злоупотребления силой и слишком грубого нарушения права. Эта идея заставить Польшу расплатиться за войну, в которой она не принимала участие, — эта беззастенчиво макиавелистическая комбинация исходила не от него. Он сам не скрывал этого. Воспользоваться этой идеей он готов был, так как не мог поступить иначе; но она претила ему. Он желал мира во что бы то ни стало, хотя бы без вознаграждения за военные расходы. Еще в ноябре 1760 года он подробно и откровенно изложил свои взгляды по этому поводу в записке, представленной им в Коллегию иностранных дел. Он также откровенно объяснился и с Бретейлем, отказавшись возобновить с ним переговоры об Украине, которые были прерваны, по крайней мере временно. Разве герцог Шуазель не находил еще недавно неудобным примешивать этот щекотливый вопрос к обсуждению условий о мире, которое само по себе должно представлять большие затруднения? Почему же он отказывается теперь от столь мудрого решения? Если впоследствии необходимость заставит вернуться к этому вопросу — канцлер думал о Шуваловых — и заключение мира будет зависеть от него, то всегда будет время заняться им.
Посол должен был передать этот ответ своему начальнику, который не мог, конечно, выказать себя более русским, нежели сам канцлер Елизаветы, тем более что Воронцов повторял лишь его собственные слова. Шуазелю не оставалось ничего другого, как самому вернуться к тому, что он говорил прежде, и он это и сделал в своей депеше от 13 мая 1761 года; высказывали взгляд, будто эта депеша служит новым указанием победы, одержанной секретной дипломатией над официальной. Но победителем здесь был один Воронцов, и эта депеша, — простой отзвук того, что Бретейль услышал месяц назад из уст русского канцлера, — указывает в действительности лишь на двойное поражение французов. Русская политика одержала верх над Францией в лице обеих своих руководящих партий; она диктовала свою волю, и это было единственным следствием побед, одержанных ею на полях сражений. Польша, несчастная Польша имела теперь серьезных защитников только в Петербурге!
В течение марта месяца новое французское предложение по поводу приступления к мирным переговорам довершило торжество России. Герцог Шуазель подсказал мысль об общей декларации, которая могла бы быть сделана в Лондоне от имени всех союзных держав через представителя России, князя Голицына. В Петербурге не могли желать ничего лучшего. Но в совете Елизаветы партия войны опять возобладала и взяла в свои руки ведение переговоров только для того, чтобы привести их к полной неудаче; отрицательное отношение к польскому вопросу, вновь проявленное герцогом Шуазелем, было тут совершенно не при чем. Утверждали, будто оно было причиной разрыва переговоров, «которые должны были вскоре открыться в Лондоне». Но где же и когда выразил герцог это отрицательное отношение? Оказывается, своей депешей от 13 мая, будто бы продиктованной и внушенной ему — и кем же? — самим Людовиком XV! Но ведь я только что говорил, при каких обстоятельствах была написана эта депеша, и, кроме того, переговоры уже велись в это время в Лондоне в продолжение двух месяцев! Сама Россия устроила так, чтобы они ни к чему не привели. Она сперва согласилась, «желая польстить: Франции этой любезностью», на принцип двух отдельных конгрессов и на заключение перемирия во время переговоров, но потом, «после зрелого размышления», сочла невозможным остановить военные действия и потребовала созыва общего конгресса. Англия помогла ей в этом, выставив неисполнимые требования, и мирные переговоры были прерваны в сентябре 1761 года.
Теперь оставался еще вопрос о непосредственном союзе между Петербургом и Версалем. Совершенно неверно, будто обмен мнений по этому поводу привел к странному недоразумению, так как Воронцов имел в виду политический союз, а барон Бретейль сделал вид, что речь идет лишь о торговом трактате. Депеша французского посла от 2 августа 1761 года, на которую ссылались в подтверждение этого взгляда, не существует в том сборнике, где ее нашли; и притом Франция и Россия успели еще раньше обменяться не одним проектом и контрпроектом по поводу заключения чисто коммерческого соглашения между обеими странами. Шуазель никакого другого соглашения не допускал и недвусмысленно напомнил барону Бретейлю точный смысл данных ему инструкций, чем заставил французского посла и русского канцлера строго держаться указанных им границ. Но они никак не могли столковаться между собой; и в конце августа Воронцов, видя, что из этого своеобразного торгового договора с обещанием субсидии, который ему очень нравился, но условия которого ни он, ни Шуазель никак не могли оформить, ничего не выходит, неожиданно решил перенести вопрос на ту почву, куда его первоначально поставил Бретейль по своему собственному почину. Тут французский посол действительно сделал вид, что не понимает русского канцлера, но Воронцов добросовестно разъяснил ему, в чем дело. «Я говорю вам о форменном союзном договоре», — сказал он. Это было ясно, и не могло подать повод ни к каким недоразумениям. Единственное, что было возможно для Бретейля, это прибегнуть к обычному якорю спасения дипломатов к затягиванию ответа, что еще недавно сделал по отношению к нему Воронцов. Посол решил в свою очередь воспользоваться этим средством и через месяц известия, пришедшие из Лондона, вывели его из затруднения. Вопрос о соглашении между обеими странами был основан на точке предположения, что мир вскоре будет заключен, и потому в значительной мере зависел от переговоров, которые велись по этому поводу на берегах Темзы. Так как лондонские переговоры были прерваны, и Франция, следовательно, не могла предложить России субсидий, а последняя требовала их, то главный повод к соглашению сам собою отпадал. Шуазель прислал объяснение в этом смысле, Воронцов не настаивал, и вопрос о договоре между Россией и Францией был позабыт.