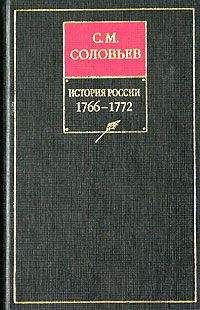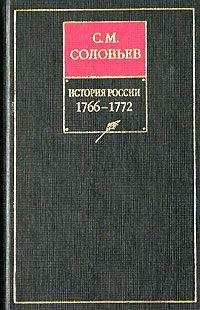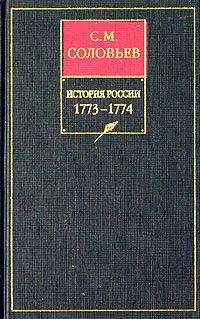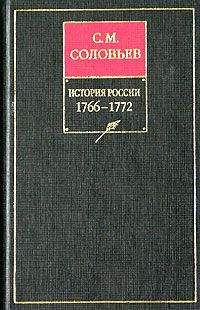Посредничество было отклонено, но 1 октября приехал в Петербург особого рода посредник. Летом, когда Фридрих сбирался на свидание с императором Иосифом, брат его принц Генрих отправился в Стокгольм для свидания с сестрою королевою шведскою. Естественно, что сближение Пруссии с Австриею, выражавшееся в повторительном свидании их государей, не могло производить в Петербурге благоприятного впечатления уже и потому, что такое сближение могло в разных странах, особенно враждебных к России, радовать мыслию о соответственном ослаблении русско-прусского союза. Для противодействия такому мнению Екатерине естественно было желать, чтоб принц Генрих из Стокгольма заехал в Петербург, ибо это свидание по значению принца, по его дружбе и влиянию на брата могло заменять свидание с самим Фридрихом. Свидание с принцем Генрихом было желательно особенно потому, что он возвращался из Швеции, а шведские дела очень беспокоили; от родного брата враждебной королевы шведской можно было узнать то, о чем не могли сообщить Остерман и Стахиев; ему можно было сделать важные внушения, могшие иметь влияние на дальнейшее поведение королевы. Екатерина написала Фридриху письмо, в котором изъявляла желание видеть принца Генриха в Петербурге. Фридрих немедленно дал знать брату, что он должен согласиться на желание русской императрицы; для его пребывания в России король ставил две цели: установить благоприятные отношения между императрицею Екатериною и сестрою их шведскою королевою и содействовать ускорению мира.
Чтоб понять поведение принца Генриха в Петербурге и смысл переписки с ним Фридриха II, мы должны припомнить основания политики последнего, как она выяснилась до сих пор из его поступков и слов. Ему прежде всего нужен был мир, который бы остановил успехи России в Турции и усиление влияния ее в Польше. Если бы Россия, напуганная им относительно вооружений Австрии, всеобщей войны, согласилась на мир с Турциею с приобретением каких-нибудь ничтожных выгод, согласилась и на окончание польских дел с уступкою в диссидентском вопросе, то Фридрих мог и на этом успокоиться: он освобождался от неприятной уплаты субсидий по союзному договору, он останавливал усиление России, давал выгодный мир Турции, успокоивал Австрию, всю Европу, в Польше отстранял русское влияние на второй план, заставляя Россию уступить в своих требованиях, — одним словом, являлся с главным, решающим значением в делах Европы, приобретал первенствующее положение, тогда как до сих пор его раздражала мысль, что на него смотрят как на сателлита России, покорное орудие ее государыни. Перед свиданием с Иосифом, в июне, Фридрих писал брату Генриху: «Мое маленькое путешествие в Моравию расположит к миру русскую императрицу более, чем все войска и смотры в мире. Австрийцы устраивают магазины на венгерских границах; сказать правду, я их не считаю значительными, но я преувеличу дело в Петербурге до последней крайности и надеюсь, что мир будет заключен будущею зимою или в будущем году война может стать всеобщею». Потом события в Дании еще более усилили в нем надежду на мирное расположение русской императрицы. «Французы изловчились в Дании свергнуть Бернсторфа, — писал он тому же принцу Генриху, — это событие, наверное, отторгнет Данию от русского союза, что может быть только выгодно для нас, ибо мы останемся единственным союзником России, и датские перемены должны заставить императрицу желать мира». Но конечно, Россия не согласится заключить мира с Портою на умеренных, по понятиям других держав, условиях; и Фридрих решил воспользоваться рождавшимися отсюда осложнениями для известных земельных приобретений; при этом главным для Фридриха условием было, чтоб эти приобретения достались путем мирных переговоров, чтоб для них ему не нужно было вовлекаться в войну; кроме того, для Фридриха было чрезвычайно важно не допустить Россию до сближения с Австриею по делам турецким, что повело бы к восстановлению елисаветинской политики и поставило бы его в одиночное положение.
Мы видели, что Фридрих в своих мемуарах, признаваясь в посылке так называемого Линарова проекта в Петербург с целию испробовать почву, скрыл при этом очень важные, существенные обстоятельства. По его словам выходит, что в Петербурге не обратили на проект внимания вследствие обаяния военных успехов, тогда как Панин принял проект очень сериозно и немедленно представил свой, так сказать, контрпроект, приглашая Пруссию и Австрию соединиться с Россиею для изгнания турок из Европы, после чего Австрия получит вознаграждение из областей Порты, а Пруссия — из польских. Но этот русский проект не мог понравиться Фридриху, которому хотелось сделать Россию и Австрию соучастницами раздела Польши, и принц Генрих мог настаивать в Петербурге только на принятии этого проекта.
Принц Генрих вначале произвел на императрицу и ее двор самое неблагоприятное впечатление. Он был вовсе не похож на брата своего, короля. Сколько последний отличался любезностию, умением вести неистощимые разговоры обо всем, говорить необыкновенно живо и остроумно, настолько принц Генрих был сериозен, молчалив, тяжел в обществе; насколько Фридрих на письме и в разговоре умел забрасывать, утомлять собеседника, перебегая от предмета к предмету (что так не нравилось Кауницу), нападать врасплох, выведывать, что ему было нужно, тогда как сам был чрезвычайно осторожен, не позволял себе высказываться до последнего предела, таил, прикрывал самые заветные свои желания, заставляя других людей или обстоятельства вести к их осуществлению, настолько у Генриха недоставало этой, так называемой дипломатической, ловкости: он или упорно отмалчивался, или говорил только о том, чего хотел достигнуть, и говорил прямо, без обходов и был для Фридриха драгоценным человеком, когда в конце 1770 года надобно было во что бы то ни стало порешить дело тем или другим из означенных способов. Наружность принца Генриха также не могла уменьшать неблагоприятного впечатления, производимого холодностию его обращения, в ней не было ничего, что бы заставляло предугадывать человека, знаменитого талантами и происхождением. Он был ниже среднего роста, очень сух, что представляло поразительную несоразмерность с необыкновенно густыми и вьющимися волосами, которые были зачесаны в огромный тупей; у него был высокий лоб и большие глаза; взгляд его отличался проницательностию и наблюдательностию; но во всей наружности не было ничего приятного; ходил он переваливаясь. Под первым впечатлением Екатерина писала Алексею Орлову: «Вчерась (2 октября) был впервой во дворце прусский принц Генрих, и он при первом свидании так был нам легок на руке, как свинцовая птица, а что умен, то уж очень умен, и сказывают, что как приглядится, то он будет обходителен и ласков; но первый раз он был так штейф, что он мне наипаче надоел, но притом должно ему ту справедливость отдать, что штейф — одна фигура его, а впрочем, он все то делал, что надлежало, с большой ко всем атенциею, только наружность его такова холодна, что на крещенские морозы похожа». Но придворных заняла преимущественно эта непривлекательная наружность, и особенно доставлял им большое удовольствие тупей принца. Начались шутки, остроты; говорили, что Генрих похож на Самсона, что вся его сила в волосах, что, зная это и помня о судьбе израильского богатыря, принц не подпускает к себе никакой Далилы; говорили, что он похож на комету, являвшуюся в прошлом году и напугавшую северных и восточных государей страхом важных перемен: у нее было небольшое ядро и огромный хвост.
Комета действительно предвещала важные перемены. Фридрих II был рассержен уклонением русского двора от его посредничества в мире с Портою: он терял важное значение примирителя и мог опасаться, что в переговорах один на один Россия может выговорить у турок больше, чем сколько, по его мнению, было нужно приобресть ей. Получивши письмо Екатерины с отстранением посредничества, Фридрих писал Генриху: «Я решил не вмешиваться ни в мирные переговоры с Турциею, ни в польские дела, оставаться простым зрителем событий. В Петербурге могут принимать наше посредничество или нет, но не надобно позволять, чтоб они открыто смеялись над нами». Через пять дней по приезде принца Генриха императрица объявила, что она желает мира и рада положиться на посредничество короля в Константинополе, но надобно подождать ответа визиря на письмо Румянцева и освобождения Обрезкова. Генрих заметил потом Панину, что двойные переговоры чрез Румянцева и чрез Пруссию только повредят делу: Панин отвечал, что посредством сношений Румянцева желают только удостовериться, думает ли Порта вообще вступить в переговоры. Союзники расходились: для Пруссии было важно овладеть мирными переговорами, привести к миру сообразно с своими интересами; для России было важно знать в случае неудачи мирных переговоров, в какой степени она может рассчитывать на своего союзника — короля прусского, в какой степени могли измениться его отношения к России вследствие сближения с Австриею. В половине октября императрица, отведя принца Генриха в сторону, спросила его: если мир не состоится, то присоветует ли он ей переводить армию через Рубикон (так она называла Дунай). Принц, которому брат твердил в своих письмах, что никак не должно переходить чрез Рубикон, принц отвечал, что это в высшей степени взволнует австрийцев, французы станут толкать их вперед, и возгорится всеобщая война; хотя прусский король и не допустит, чтоб предприятия России были остановлены, однако Пруссия должна будет управляться с французами, «Так мы должны заключить мир, — сказала Екатерина, смеясь. — Я хочу мира, — продолжала она, — но султан человек дикий, и французские подущения не позволят ему быть благоразумным». «Король, мой брат, образумит его, если в. величество вверите ему свои интересы», — сказал принц. «Прежде января дело не уяснится», — отвечала императрица.