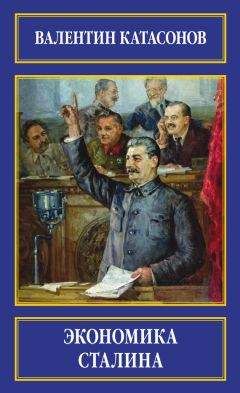- Что бы там ни было, избавиться надо от этого человека, - сказала женщина-врач, - он опасен для больных, он опасен для нас...
- Ах, как я испугалась! Я думала, он нас всех перебьет! - И хорошенькая сестра с каштановыми волосами, спускавшимися колечками на лоб, покосилась на старшего врача, который за ней ухаживал. - Почему вы не остановили его, Николай Петрович?
- Человека, действующего под влиянием аффекта, ни в коем случае не следует раздражать... Давайте лучше сыграем в шахматы.
Было душно в комнате, душно от разговоров. Бушевал ветер, дождь порывами бил в окно. А где-то там, в темноте, в тесных солдатских бараках назревало большое, жуткое. Его глушили годами, и вот теперь оно вырывалось безобразными неумелыми порывами, вырывалось с невероятной, стихийной силой.
Савельев мог ударить, убить. Было страшно от этой мысли, но злобы, возмущения не было. Убил бы и не был бы виноват, а только жалок.
Я говорила с ним на другой день.
- На кой нам черт эта революция! Вместо царя Львовы там или Керенские. Все равно сидеть в окопах, во вшах, в грязи! - говорил он, захлебываясь, спеша, точно боялся, что не успеет высказать всё. - Вон, ваш поляк распоряжается, в тепле чай и вино попивает... А чем мы хуже его? Я жену больше года не видал...
Условности, искусственность отношений между начальством и подчиненными исчезли. Он плакал, грязным кулаком размазывая слезы по лицу, как ребенок.
- Где же она, правда? Фельдшер в перевязочном говорит: "Довольно с немцами воевали, вали, ребята, в тыл воевать с буржуями, у помещиков землю, у фабрикантов фабрики отбирать". А взводный наш: "Сволочь, - говорит, - вы все, трусы, родину немцу продаете. Долг солдата за Расею до победного конца стоять". Где же она, правда?
Речи
Все говорили речи. Везде, как грибы, вырастали трибуны. Куда ни приедешь, везде собрания. Стали появляться странные люди. Они говорили больше всех, призывали бросать фронт, не подчиняться офицерам.
Говорили офицеры, сестры - все. Помню, приехала в отряд. На трибуне большевик. Не успел кончить, вскочил на трибуну шофер, поляк, с которым я только что приехала.
- Товарищи, - начал шофер, как будто он только и делал всю жизнь, что говорил речи, - товарищи, я поляк, но я русский патриот, я за войну до победного конца! Без аннексий и контрибуций!
Он выкрикивал короткие фразы, бил себя по кожаной куртке в грудь, когда кончил...
- Уррааа! - крикнули солдаты и хотели его качать, но вдруг на трибуну не взошел, а взлетел первый оратор.
- Долой наймитов капитала! - заорал он во все горло. - Долой пиявок, сосущих кровь из трудового народа! В то время как вы, голодные, холодные, во вшах, сидите в окопах, царские шпионы уклоняются от военной службы, ради своих интересов... Да здравствуют советы солдатских и рабочих депутатов! - закончил оратор.
- Уррааа! - заревели солдаты, неловко хватая оратора за ноги и за руки и взмахивая его кверху.
Заклокотало у меня в груди, вскочила я на трибуну и произнесла патриотическую речь.
Это было сумасшествие. Запомнился один начальник дивизии. Старик-болгарин, стамбуловец. Говорили, что тело его покрыто рубцами, секли за революционную деятельность в родной стране.
Он говорил без выкриков, просто, душевно. Говорил о необходимости держать фронт, о верности Временному правительству. Когда кончил, расплакался, и солдаты были растроганы, долго кричали ему "ура".
Но при первых же звуках крикливого голоса нового оратора улетучилось впечатление спокойных, разумных слов. Едкая злоба, месть, ненависть били по издерганным нервам, ударяли в голову, будили подавленные веками могучие волны независимости, гнева.
- Долой царских генералов! Сплотившись в единый мирный фронт, пролетариат всего мира даст отпор капиталистам, палачам! Товарищи! Долой братоубийственную империалистическую войну! Стройте мирную социалистическую жизнь! Мир хижинам, война дворцам!
Слова были новые, непонятные. Но они жгли огнем, они звали к чему-то неизведанному и лучшему, чем было до сих пор.
Генерал низко склонил седую голову и, точно сразу постарев и ослабев, сгорбился и, сопя носом, отошел в сторону.
* * *
За Молодечно, под Крево, был сосредоточен кулак против немцев. Яблоку негде было упасть. В каждом перелеске - батареи, войска. С трудом нашли место для второй летучки, но опасное, неприкрытое.
Я никогда не видала такого артиллерийского боя. Разговаривать нельзя было, в ушах стоял гул. Подвозили все новые и новые снаряды, лопались орудия.
Раненых было немного. Большинство инвалиды, офицеры, солдат было мало, с пустяшными ранениями.
- Ну перевязывай, тебе говорят, - и солдат тыкал сестру в нос обрубком пальца.
- Подождите, товарищ, есть раненые в живот...
- А я тебе говорю, перевязывай.
- Не могу, распоряжение...
- Ах ты, сволочь этакая! Б...ь офицерская! Перевязывай, тебе говорят!
- Что за шум? В чем дело? - с поднятыми кверху чистыми руками спрашивал врач, выходя из перевязочной. - Раненых в голову и живот в первую очередь, - и он снова скрывался за дверью.
А солдат с пальцем долго и нехорошо ругался.
Говорили, что семь рядов проволочных заграждений, окопы, - все было сметено артиллерийским огнем. Немцы бежали. Но и там шла неперестающая агитация.
- Немцы, товарищи! Немецкая кавалерия! - кричал кто-то, завидя удирающего с передками немца. И солдаты бежали.
Вечером, после боев, когда русские продвинулись и снова заняли прежние позиции, в персональной столовой сидел мальчик-прапорщик и, закрыв лицо руками, плакал.
- Солдаты! Какие мерзавцы! Я никогда не думал, что они такие мерзавцы, бормотал он сквозь слезы, - вы знаете? Мой лучший друг убит... Да в общем, все офицеры перебиты, кажется, я один остался. И как убит! Мерзавцы! Бросили пулемет, бежали. Он был ранен в ногу, подполз, нажал кнопку, продолжал стрелять. Вторым снарядом его убило. Какова смерть? А? А вы знаете, что они говорят? Я слышал: "Вот, говорят, как офицерству война выгодна. Раненый и то полез опять стрелять, наемник буржуазии". О, мерзавцы!
И мальчик-прапорщик снова горько заплакал.
Один раз, когда я подъехала к первой летучке, персонал и начальник летучки выбежали из палатки ко мне навстречу.
- Пожалуйста, разрешите нам поехать на собрание. Керенский выступает. Это совсем близко, только три версты отсюда, он будет говорить!
Мне тоже хотелось его послушать, и мы все вскочили в машину и поехали. Опоздали. Керенский уже говорил. Собралась громадная толпа солдат.
На высокой трибуне худой человек среднего роста в солдатской шинели охрипшим голосом выкрикивал какие-то слова, которые трудно было разобрать. Мне показалось, что не было простоты, убежденности в речах оратора, в его призывах объединиться для спасения России.
Когда мы возвращались в свой отряд и доктора восторженно переговаривались и восхищались речью Керенского, я молчала, мне было не по себе.
"Неужели они верят, - думала я, - что этот человек может спасти Россию?"
* * *
В первую летучку приехала ревизия осматривать лошадей. Дивизионный врач, представитель от Всероссийского Земского Союза и еще кто-то. В ту пору благодаря упадку дисциплины везде, почти во всех конных частях, как в военных, так и в общественных организациях, появилась чесотка. У нас в отряде ее не было.
Вызываю начальника летучки, тот вызывает фельдфебеля, передается приказ привести лошадей. У каждого санитара по две лошади на руках, всего с верховыми в отряде около ста тридцати.
Комиссия ждет. Проходит минут двадцать, а лошадей нет. Вдруг меня вызывают. Прибежал фельдфебель, взволнованный.
- Госпожа уполномоченный! Что делать? Санитары отказываются вести лошадей.
- Что?!
- Так что санитары говорят: ежели начальство интересуется, могут сами прийти к коновязям лошадей смотреть...
Делая вид, что я не расслышала или не поняла, я строго сказала:
- Я очень недовольна, что вы так долго заставляете ждать начальство. Вы знаете, что наши лошади в порядке и беспокоиться нам нечего. Скажите команде, что я уверена, что все сойдет хорошо, потому что везде лошади в чесотке, а у нас нет. И тогда ведро вина команде!
- Но, госпожа уполномоченный...
- Вы слышали, что я сказала? А теперь живо! Чтобы через пять минут лошади были здесь. И не забудьте сказать каптенармусу насчет вина.
- Слушаюсь.
Через пять минут показалась стройная колонна, каждый солдат вел свою пару лошадей. Лошади сытые, вычищенные, совершенно здоровые.
Начальство осталось довольно:
- Молодцы, санитары!
- Рады стараться, господин генерал!
Все развеселились, солдаты заулыбались.
Но положение делалось серьезнее с каждым днем. Дисциплина падала. Особенно плохо было во второй летучке. Начальник ничего не мог сделать с командой. Отказывались работать, грубили. Был даже случай отказа передвинуться на новое место по приказу начальника дивизии.