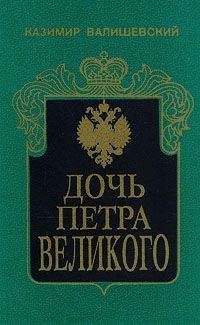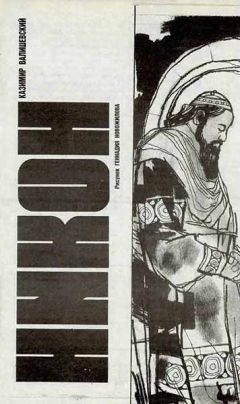И еще раз химера крестового похода вырисовывалась в уме этого наследника героических преданий. В 1645 году прибытие в Варшаву посланника Венеции, Тьеполо, дало облик его мечте. Этот посланник прибыл в Польшу не только для того, чтобы заключить союз против турок. Назавтра после появления оттоманов под стенами Кандии синьория жаждала только мира, который не был бы слишком позорным. Она имела основание думать, что, разделив силы своего противника, она сделает его более покладистым, и только ради этой единственной диверсии она была готова, несмотря на истощение своих финансов, пожертвовать некоторой денежной суммой.
Владислав совершенно не проникал в эти тайные намерения или не старался раскрыть блестящую фразеологию, в которую их облекали. Преследуя свою собственную цель, он видел в сделанных ему предложениях только средство овладеть тем, чего ему недоставало для осуществления своего плана: нервом войны. И с той и с другой стороны, не очень настаивая, хлопотали о составлении антиоттоманской лиги; более серьезно спорили о цифре субсидии, которая может понадобиться для этого, и кончили соглашением, но отнюдь не абсолютный государь Владислав не был в силах вовлечь в предприятие республиканское государство, участь которого была в его руках, или мог прибегнуть лишь к обходным средствам. Для этого ему была необходима помощь казаков. Напустив на турок или даже только на татар эту свору, всегда готовую укусить, он имел шансы довести дело до конца.
Таким образом, под давлением Тьеполо король не только должен был обласкать своих необходимых помощников, но и восстановить их военное могущество, которое правительство республики так долго стремилось разбить. В январе 1646 года было даже решено, что запорожцы двинутся в море с сорока чайками. За это обещание венецианский посланец обязывался доставить в два года сумму в 600 000 экю.
И это было все; но на этой канве народное воображение нарисовало самые фантастические узоры. В Украйне говорили о хартии, которую будто бы король дал казакам и по которой они могли пользоваться старыми привилегиями. Иван Барабаш, простой полковник, обратившийся силою вещей в гетмана, считался укрывателем этого документа. Им позже воспользовался и Хмельницкий, хотя никогда его и не показывал. По всей вероятности, эта басня была вызвана письмом короля, разрешавшим казакам строить чайки.
Таким же образом в Европе стали поговаривать об образовании армии из всех христианских держав, которые должны были войти в коалицию и предпринять поход против турок, причем ее начальником указывали уже маркиза Людовика де Северака, будущего герцога Арпажонского, а тогда французского посла в Польше. Позже говорили даже, что Хмельницкий ездил во Францию для предварительных переговоров, и этим объяснялось присутствие двух тысяч казаков под стенами Дюнкиркена, отнятого в 1646 году герцогом Енгиенским у испанцев. Никогда ни один казак не вступал на почву Франции, и эта другая выдумка имеет своим несомненным источником переговоры, которые были начаты раньше в Варшаве маркизом де Бреги, предшественником Северака, для рекрутского набора в Польше, хотя эти переговоры ничем не увенчались.
Не заботясь совершенно о тревоге, которая была им поднята в Украйне или в других местах, Владислав не терял ни минуты для того, чтобы привести в исполнение свой великий проект. Доверив эту тайну нескольким влиятельным лицам и заручившись поддержкою великого коронного генерала Конецпольского, отца чигиринского старосты, он произвел большой набор и собрал необходимый провиант. Он думал, что цель близка, но увы! В марте 1646 года смерть Конецпольского, женившегося шестидесяти лет от роду на молодой красавице, перевернула вверх дном все эти планы. В это время, поднимая огромную шумиху на всем европейском континенте, эти приготовления вызвали уже в Польше довольно сильный протест. Крупные чиновники, не посвященные в тайну, возбуждали шляхту. А когда авторитет великого генерала перестал прикрывать действия короля, эти признаки недовольства обратились в целую бурю. Вооружения, производимые тайно и поддержка казаков приняли в возбужденных умах характер не нападения на турок, а заговора для уничтожения республиканских свобод и установления абсолютной власти.
Собравшись в ноябре 1646 года, сейм разразился градом обвинений и потребовал от короля роспуска собранных войск, сохранения мира с Турцией и возобновления прежних приказов, воспрещавших казакам походы на море. Это было крушение всего дела, и Владиславу пришлось от него отказаться. Но он был обязан своему шведскому происхождению тем упорством, которое, соединившись со славянскою фантазией, мешало ему считаться как следует с препятствиями. Он не знал, кроме того, как освободиться от обязательств, принятых по отношению к казакам, и чувствовал, что, вернувшись снова к тому, что уже было сделано, он рисковал вызвать новое восстание, для которого он сам же дал казакам оружие в руки. И он упрямился, придавая этому неудавшемуся предприятию все более и более химерический и опасный характер.
Распределяя места ввиду смерти Конецпольского, он всячески старался найти себе поддержку среди некоторых могущественных фамилий, и это заставило его отдать два главных места в начальствовании над армией двум явно ничтожным личностям. В то же время он привлек в Варшаву несколько известных казаков, прославившихся во время процесса Хмельницкого, и ночью сносился с ними, подав этим повод к созданию новых легенд. Распространился слух о второй хартии, доводящей число зарегистрированных до 20 000 человек и запрещавшей польским войскам переходить линию Белой Церкви. Рассказывали также, что, когда Хмельницкий запрашивал его по поводу его слободы, король дал ему свою собственную саблю и поручил ему употреблять ее в защиту от всех неприятелей, которые встретятся казакам в Украйне.
«Запорожские рыцари» знали, что власть государя не в силах поколебать решений законодательного органа республики, и документ, в котором он так необычайно перешел границы своей власти, никогда не был воспроизведен. Что же касается до истории с саблею, то бывший тогда в Варшаве московский агент Кунаков упоминает об этом в своем рапорте, хотя эта история, при ее различных толкованиях, ни в какой версии не является приемлемой. В этом рапорте Владислав представлен рисующим саблю и передающим Хмельницкому это изображение в знак признательности, но тут мы имеем дело просто с отражением какого-либо незначительного обстоятельства.
Более серьезно, хотя и очень безрассудно, король вторично вмешался в это страшное приключение. В марте 1646 года московское посольство сделало ему предложение, несомненно согласовавшееся с его проектом: соединение днепровских казаков с донскими для нападения на Крым и общие действия соединенными армиями обеих стран в случае возникновения из-за этого войны. Хотя переговоры не были еще закончены, но Владислав думал обойтись без этой помощи. Теперь, в июне 1647 года, он поручил собственному посланнику в Москве, Адаму Киселю, подписать формальный союз с царем. Оставив для себя войну с Турцией, он надеялся, что москвитяне не дадут хода крымским татарам. Иннервированный затруднениями, которые ему встречались на пути, снедаемый болезнью, которая вскоре свела его в могилу, он отдался во власть форменных галлюцинаций, мечтая о вмешательстве папы, императора, итальянских и германских принцев, Франции, Испании и Швеции. Доверясь звездам, обещавшим ему через его астролога полную победу, и благоприятной судьбе своей жены, Марии Гонзаго, которой кудесники предсказали наследство Палеологов, он продолжал витать в своих грезах.
На деле все эти события произвели страшный удар по всей Украйне, где, переходя от надежд, возбужденных в них государем, к суровому третированию со стороны сейма, казаки доходили до пароксизма крайнего возбуждения и гнева. Прибыв в страну в августе 1647 года, великий канцлер Польши Георгий Оссолинский пытался успокоить умы. Но тотчас же распространился слух, будто бы он явился, чтобы призвать «запорожских рыцарей» для нападения на турок во главе большой армии, которой будет командовать Хмельницкий!
Настоящая цель этого путешествия канцлера и та роль, которую он в нем играл, остаются довольно загадочными.
По всей вероятности, преданный Владиславу, Оссолинский просто ограничился уверением казаков в том, что король не оставил своего проекта, и это было верно. Смерть единственного сына, последовавшая в это время, только увеличила воинственный пыл несчастного монарха. «Если бы Бог взял его у меня раньше, – говорил он, – я бы не уступил сейму!» Не будучи в состоянии более собрать войска, он пытался получить хотя бы какие-нибудь отряды из Франции или Швеции и отказался ради этого от вмешательства в Вестфальский мир. Он завел переговоры с эмиссарами Греции и Болгарии, даже с марокканским посланником! Но обо всем этом ничего не знали на Украйне, и там, напротив, были уверены, будто бы, вступив в открытый конфликт с польскою знатью, король думает призвать под свои знамена до ста тысяч казаков – дошли уже до этой цифры! – в то время как шляхта только и думала о том, чтобы обратить их всех в крестьян, со всею тяжестью барщины. И следовательно, намерение государя состояло в том, чтобы его верноподданные в Украйне выступили против польских мятежников, которые шли наперекор его великодушным намерениям и великим проектам. Оттого он и выбрал Хмельницкого, который, побывав жертвою еще более жестокой несправедливости, сумеет, мстя за нее, защитить общее дело.