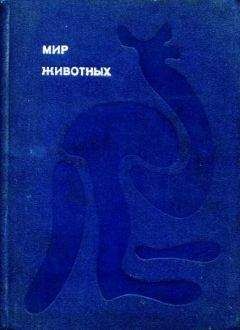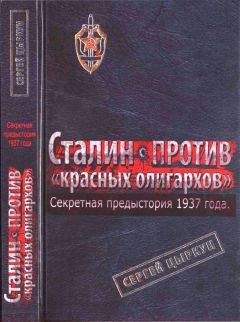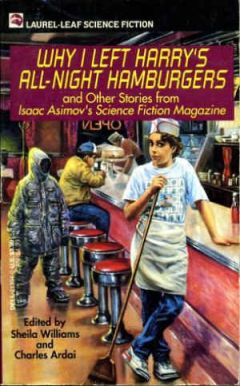Рядом с Внутренней тюрьмой в том же дворике находилось подвальное помещение буфета для сотрудников ведомства, куда они ходили завтракать, «ибо в буфете сотрудникам выдавались масло, яйца, хлеб, что в городе можно было достать с большим трудом». В связи с этим поход в буфет вызывал у работников НКВД чувство страха перед Внутренней тюрьмой и Ягодой, который мог их в любой момент туда отправить. «Мы проходили по Внутреннему двору, – вспоминал Г. Агабеков, – разгороженному деревянным забором, у которого стоял часовой. За этим забором помещалась часть внутренней тюрьмы. Недалеко от часового стоял большой грузовик-ящик, окрашенный в черный цвет. Эту машину, когда она мчится по улицам Москвы, жители называют «черный ворон». Сейчас шофер возился с машиной. Видимо, чистил после ночной работы.
– Когда я вижу эту машину, меня дрожь берет, – сказал Кеворкян, обращаясь ко мне на армянском языке.
– Что, у тебя совесть нечиста? – спросил я. – Нечего дрожать, лучше привыкай. Тебе ведь не миновать внутреннего двора, – добавил я, смеясь» [127] .
Если Ягода получал сигнал о том, что в каком-либо подразделении НКВД неблагополучно, он направлял туда творить расправу верного Миронова, который в частном разговоре с начальником Ленинградского УНКВД Л. Заковским признавался, что ему самому надоели «эти карательные экспедиции» [128] . И вот чья-то услужливая рука подложила на стол наркома проект решения судьбы начальника Западно-Сибирского крайуправления НКВД В. Каруцкого. В годы Гражданской войны Каруцкий никаких наград и почестей не снискал (служил он, к слову сказать, в Белой гвардии у Колчака, затем некоторое время занимался «партизанством», а чуть позже устроился в Красную Армию военследом) [129] , зато в мирное время стал завсегдатаем кремлевских банкетов, где запросто общался с партийными вельможами высшего ранга, в частности, Кагановичем [130] . Из-за своей неотесанности в общении с кремлевскими сановниками ему из Москвы пришлось отправиться сначала в Среднюю Азию, а затем в Западную Сибирь. Ягода славился нетерпимым отношением к пьянству тех работников НКВД, кто не входил в его близкое окружение. К примеру, С. В. Пузицкий, многолетний руководитель советской контрразведки, а затем разведки, впоследствии при допросе показал: «В середине 1935 года после ухода из Разведупра я был вызван Ягодой к нему в кабинет. Ягода сразу на меня накинулся с руганью, указав, что я занимаюсь беспробудным пьянством, совершенно не работаю и окончательно разложился, что он вынужден будет, в конце концов, принять по отношению ко мне решительные меры вплоть до того, что передаст суду и поставит вопрос о моем пребывании в партии» [131] .
Что же до Василия Каруцкого, то он близок к Ягоде не был, а при этом, по свидетельству близко знавших его, «Каруцкий любил выпить и с годами все более увлекался этим занятием» [132] . Вероятную причину этого сообщает его друг Г. Агабеков: «С Каруцким мы были старые приятели. Молодой человек чрезвычайной толщины, большой добряк, он... очень любил выпить и совсем запил после смерти жены, покончившей с собой из-за каких-то семейных неладов» [133] . Нелады заключались в том, что у нее был сын от первого брака с белогвардейским офицером. От Каруцкого потребовали как условие продолжения чекистской карьеры, чтобы он отослал ребенка к родственникам и не принимал в своем доме. Его жена, не выдержав разлуки с сыном, покончила с собой, и Каруцкий утешался собиранием коллекции порнографических открыток и выпивкой. Его любимая открытка выглядела так: «Болгария, церковь. Ворвались турки, насилуют монашенок». Каруцкий очень любил женщин, и у него был подручный Абрашка, который ему их поставлял. Высматривал, обхаживал, сводничал» [134] . Кончилось дело тем, что 15 июля Ягода снял Каруцкого с работы «из-за недопустимого личного образа жизни... бездеятельности и потери чутья» [135] . Очевидно, что Каруцкий был озлоблен на Ягоду за снятие с должности с подобной формулировкой. Но важно и другое – кремлевские покровители почему-то не спешили за него вступиться. С ним повторили тот же ход, что и с Молотовым – дали ему целых полтора месяца на размышление о том, что с ним станет, если бросить его на произвол Ягоды. Полтора месяца человек жил без персональной автомашины с шофером, без исполнительных секретарей и заискивающих помощников, без «подручного Абрашки». В перспективе были открепление от роскошных ведомственных санаториев и престижных ведомственных же больниц и поликлиник, от системы снабжения продуктами, которых не знали прилавки обычных магазинов, лишение обслуги (т.е. поваров и горничных), которая по статусу полагалась ему за государственный счет, выселение со спецдачи и роскошного особняка, также полагающихся по должности начальнику крайУНКВД, а дальше – унизительная толкотня в общих очередях, давка в трамваях, отсутствие доступа к привычным продпайкам, невозможность прилично одеться, одним словом – превращение из всемогущих вельмож в совершенно бесправного простого советского человека, трудящегося . Для иллюстрации опишем образ жизни начальника Западно-Сибирского УНКВД по воспоминаниям жены С. Миронова-Короля, занявшего эту должность через несколько месяцев после Каруцкого:
«В Новосибирске нам предоставили особняк бывшего генерал-губернатора. В воротах, оберегая нас, стоял милиционер.
Там был большой двор-сад, в нем эстрада, где выступали для нас приезжающие местные актеры, и еще отдельный домик-бильярдная. В самом дворце устроили для нас просмотровый кинозал. И я, как первая дама города, выбирала из списка, какой именно кинофильм сегодня хочу посмотреть.
У меня был свой «двор», меня окружали «фрейлины» – жены начальников. Кого пригласить, а кого нет, было в моей воле, и они соперничали за мое расположение. Фильмы выбирала я, с ними только советовалась.
Мы, бывало, сидим в зале, смотрим фильм; «подхалимы» несут нам фрукты, пирожные... Да, да, вы правы, конечно, я неверно употребляю это слово. Точнее сказать «слуги», конечно, но я называла их подхалимами – уж очень старались они угодить и предупредить каждое наше желание. Они так и вились вокруг нас. Их теперь называют «обслугой» (не «прислугой» – прислуга была у бывших)...
... Несут пирожные, знаете какие? Внутри налито мороженое с горящим спиртом, но их можно было есть не обжигаясь. Представьте себе, в полутьме зала голубые огоньки пирожных. Я-то, правда, не очень их ела, берегла талию, ела чаще всего одни апельсины.
Мои придворные дамы и пикнуть не смели против меня, те же подхалимки...
Вскоре, как мы приехали, мы были приглашены к Эйхе.
Роберт Индрикович Эйхе, когда-то латышский коммунист, был теперь секретарем Западно-Сибирского крайкома.
И вот представьте себе. Зима. Сибирь. Мороз сорок градусов, кругом лес – ели, сосны, лиственницы. Глухомань, тайга, и вдруг среди этой стужи и снега в глубине поляны – забор, за ним сверкающий сверху донизу огнями дворец!
Мы поднимаемся по ступеням, нас встречает швейцар, кланяется почтительно, открывает перед нами дверь, и мы с мороза попадаем сразу в южную теплынь. К нам кидаются «подхалимы», то бишь, простите, «обслуга», помогают раздеться, а тепло, тепло, как летом. Огромный, залитый светом вестибюль. Прямо – лестница, покрытая мягким ковром, а справа и слева в горшках на каждой ступени – живые распускающиеся лилии. Такой роскоши я никогда еще не видела! Даже у нас в губернаторском особняке такого не было.
Входим в залу. Стены обтянуты красновато-коричневым шелком, а уж шторы, а стол... Словом, ни в сказке сказать, ни пером описать!
Встречает сам Эйхе – высокий, сухощавый, лицо строгое, про него говорили, что он человек честный и культурный, но вельможа.
Пожал руку Сереже, на меня только взглянул – я была со вкусом, хорошо одета, – взглянул мимоходом, поздоровался, но как-то небрежно. Я сразу это пренебрежение к себе почувствовала, вот до сих пор забыть не могу...
Впрочем, за столом он старался быть любезным, протянул мне меню первой, спросил, что я выберу, а я сама не знала, глаза разбегаются. Я и призналась – не знаю... А он говорит мне, как ребенку, упрощая снисходительно, даже ласково:
– А я знаю. Закажите телячьи ножки фрикассе.
<...>
Я говорила, как нас принимал Эйхе на даче-дворце в лесу. После этого мы встречались с ними не раз. У них была еще дача, меньше той, но тоже роскошная, только уютнее, милее.
Однажды мы приехали туда вдвоем. На даче – только Эйхе и его жена (слуг я не считаю)...» [136]
И вдруг из этих дворцов и правительственных дач, где разбегались глаза от изысканных блюд в меню и можно было «не считать» слуг, Каруцкому грозит опасность перебраться прямиком в ряды советских трудящихся – тех самых, которые в это время жили в неотапливаемых бараках, землянках и времянках, давились в очередях за крупой и черствым хлебом, работали в две смены в условиях форсированной индустриализации... Из всего былого великолепия ему оставили только его любимые порнографические открытки – скромную утеху коммуниста и чекиста. И это изгнание из номенклатурного Эдема – благодаря немилости Ягоды. Легко представить себе отношение Каруцкого, и без того не слишком сдержанного, к Ягоде и его клевретам, тем более что он хорошо знал, какой образ жизни в действительности ведут они сами.